Полуночное солнце - [80]
Закипевший чайник прерывает пение девушки. Она бережно кладет кисет на шкуры и снимает чайник. И только сейчас, при пламени костра, я вижу лицо девушки, ее раскосые с добродушной хитринкой глаза и маленькие руки.
«Девушка с реки Сюррембой-Яга, — вспоминаю я, — комсорг колхоза «Вершина четырех рек» Тоня Вылко».
Девушка тоже смотрит на меня.
— Здравствуй, товарис, — говорит она. — Вот ты и снова приехал к нам. А говорил — не приедешь.
Она садится рядом со мной и протягивает маленькую жесткую ладонь. Она по-мужски отвечает на рукопожатие и с дружеской сердечностью рассматривает меня.
Она похорошела за год разлуки, но по-прежнему ее речь похожа на детскую. Она долго всматривается в мое лицо и говорит певуче:
— Ты такой же остался, товарис, только глаза постарели. Правда?
— Правда, — сказал я и посмотрел на кисет, расшитый ею.
Девушка смущенно спрятала кисет.
— А у меня много хорошего, — доверчиво продолжала она, — я теперь кандидат партии… — Девушка задумалась и замолчала. И тихо, точно не веря себе, добавила: — Это очень большая радость, если он любит меня.
— Он, наверное, любит тебя, — сказал я нерешительно.
Девушка улыбнулась, но глаза ее стали печальными.
— У него теперь отморожены ноги… там, на фронте… Мне сказала об этом русская учителка… Он часто ей писал…
— А тебе?
— Я худо письма сочиняю, верно, поэтому он мне и не писал, — ответила девушка. — Сегодня его привезут сюда на праздник Оленя, и я спрошу, почему он не писал мне писем. Чаю-то попьешь?
Я утвердительно кивнул головой. Пока я пил крепкий черный чай, девушка вынимала из своего плоского и широкого сундучка ситцевые и сатиновые платья. Она бережно расправляла их и спрашивала совета, в каком платье ей лучше всего встретить Яптэко Манзадея.
— Надень голубое, — сказал я, — оно самое простое и красивое.
— Оно не по моде сшито, — сказала девушка. — В Москве носят такие платья?
— В Москве всякие носят, — ответил я и, попив чаю, вышел из чума.
Необычная тишина стойбища удивила меня. Казалось, все вымерло в этот полуденный час. Недвижимо висел над Красным чумом флажок, похожий на пионерскую косынку. Прямая трава, жесткая, как наконечники стрел, пролегла от чума к чуму, уже тронутая дыханием осени. Трава была жестка, и бледно-золотые линии умирания окаймляли листья.
«Скоро здесь станет грустно», — невольно подумал я и посмотрел на горизонт.
Казалось, плоское и широкое облако, приземлившееся к сопкам, ползло от ложного горизонта. Немного левее катились два других облачка. Это пастухи гнали стада, торопясь на праздник Оленя.
Я вернулся в чум, чтобы предупредить об этом Тоню Вылко.
Девушка сидела у костра. Синее платье лежало на шкурах. Приподняв крышку сундука, девушка вытащила тобоки, вышитые сукнами всех цветов радуги, — тобоки для любимого парня. Она достала из сундучка кисет, разукрашенный бисером, с инициалами Яптэко, и, уже не смущаясь меня, пела песни, каких немало сложил ее народ.
— Как ты думаешь, в какой чум сначала он войдет? — неожиданно спросила девушка.
Я не успел ответить. Щелканье оленьих копыт и свист ясовея за чумом задержали мое внимание.
— Торопись, — сказал я, — стадо уже в долине. Это, наверное, он.
Девушка побледнела. Она торопливо схватила синее платье, и я отвернулся, чтоб не смущать ее во время одевания.
— Не надо, — сказала она упавшим голосом, — я не буду одеваться.
Смятение и мертвенную бледность я увидел на лице девушки.
— Это он? — спросил я.
— Да, — тихо ответила она, судорожно тиская в руках платье, и, точно боясь чего-то, попросила: — Мне сейчас очень тяжело. Оставь меня одну. Я буду реветь.
Я покинул чум в смутном ощущении какой-то большой правды, еще не понятой мной. Я вышел из чума и увидел посреди стойбища упряжку. Подбежав к ней, я нерешительно произнес имя человека, сидящего на нартах.
— Яптэко! — сказал я. — Здравствуй, Яптэко!
Человек быстро повернул ко мне бледное лицо, искаженное многими месяцами страданий.
— Здравствуй, — сказал он равнодушно и, заметив мой взгляд, устремленный на его забинтованную повыше колена правую ногу, на костыли, пояснил извиняющимся тоном: — Это на фронте… Отрезали доктора… Пулей разорвало… Морозом худо сделало… — И, пытаясь стать на костыли, он закачался и хрипло попросил: — Помоги мне, товарищ.
Я выполнил его просьбу. Опираясь на костыли, он посмотрел на меня невидящим взглядом и спросил как о чем-то затаенном:
— А она здесь?
— Здесь, — сказал я.
— Я все время думал о ней, — сказал он с усилием. — Помнишь, прошлой весной я говорил тебе об этом.
— Помню, — сказал я, и вновь большая жалость к Тоне Вылко опалила мою душу. Я увидел, как, неуверенно переставляя костыли, он проковылял в Красный чум к русской учителке.
Я вернулся в свой чум и посмотрел на девушку. Она все видела и все поняла, но странно — ни одна жилка не дрогнула на ее побледневшем лице, когда я сказал, что Яптэко первым посетил чум учителки.
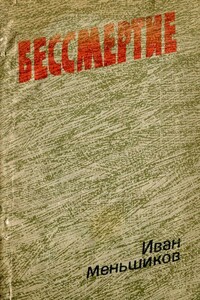
Иван Николаевич Меньшиков, уроженец Челябинской области, погиб в 1943 году на земле партизанской Белоруссии при выполнении ответственного задания ЦК ВЛКСМ.В новую книгу писателя вошли повести и рассказы, отражающие две главные темы его творчества: жизнь ненецкого народа, возрожденного Октябрем, и героизм советских людей в Великой Отечественной войне.

Шла Великая Отечественная война. А глубоко в тылу ученики железнодорожного училища решили отремонтировать для фронта старый паровоз.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.