Польский театр Катастрофы - [31]
Рассказ Пайпера принадлежит к свидетельствам исключительным, своего рода скандальным (хотя бы из‐за того, что он не взывает к эмпатии по отношению к спектаклю унижения). Пайпер переносит акты унижения и насилия и в то же время анализирует собственное переживание, формулирует фантазм и все время продолжает настаивать на его реальности. Границы между ситуацией непосредственного переживания, ситуацией свидетельствования и театральной ситуацией оказываются стерты.
Ситуации крайнего унижения, феномены пассивности, похожие на те, что описаны у Пайпера, оказались в центре спектаклей Кантора и Гротовского[118], а трансгрессивные метафоры театра формировали их механизмы реального восприятия. Оба художника абсолютно отдавали себе отчет, из сферы какого конкретного исторического опыта они берут модели для своих спектаклей. Оба ощущали этот факт как трансгрессию этических и культурных норм, рискованную игру с вытесненным коллективным опытом. Отсюда в комментариях к своим собственным спектаклям оба художника так часто прибегают к определениям, имеющим отношение к табу, стыду, трансгрессии, скандалу, шоку, стрессу. Оба использовали аффективную силу образа крайне униженного человека, чтобы нанести публике удар (стратегия Пайпера!), и более того — не скрывали исторических источников этого образа (хотя и должны были рассчитывать на то, что публика находится под воздействием процессов вытеснения и забвения).
В первый раз постулат «бедного театра» был отчетливого сформулирован Гротовским тогда, когда он работал над «Акрополем» (1962). А манифест «Театра Смерти» Кантора возник в процессе реализации «Умершего класса» (1975). В обоих спектаклях отсылки к уничтожению евреев были видимы с шокирующей силой, хотя в то же самое время публика была склонна их не прочитывать[119]. Более того: игра с беспамятством зрителей входила, как мне представляется, в число стратегий обоих художников. Если бы картина была более насыщена исторической конкретикой, это бы разрушило ее аффективную силу. Понимание (или же «правильная» референциальность) было принесено в жертву усиленному действию аффектов. На первый взгляд — все наоборот, чем у Пайпера, который требовал полного самосознания, усиливал неповторимую историчность собственного переживания и ожидал политического воздействия. В этом смысле авангардный польский театр рождается на руинах метафоры, приведенной в действие Пайпером. Однако Пайпер ссылался также, как мы помним, на возможность «отыграть» то, что в пересказе было стерто или выброшено. Точно так как в концепции повторения, разработанной Делезом: «это непознанное знание должно быть представлено как заполняющее всю сцену, пропитывающее все составляющие пьесы, вбирающее в себя все силы природы и духа. Но в то же время герой не может себе это представить, он, напротив, должен обратить это в действие, сыграть, повторить»[120]. В своем отыгрывании еврея Пайпер борется уже за будущее — за принцип собственного присутствия в зримом для общества пространстве.
Театр, разыгранный как метафора в действии, возвращается в облике метонимии: разрыва в плотном поле дня сегодняшнего. Переход от метафоры к метонимии имеет свои конкретные исторические отсылки. Достаточно привести многочисленные рассказы евреев, которые во время войны скрывались и чье возвращение к явной жизни воспринималось как неожиданный и нежелательный инцидент. Метафора театра, использованная Пайпером, — это, таким образом, метонимический след действительности, отмеченной Катастрофой, модель неожиданного и нежелательного обнаружения себя в поле зрения. В этом смысле стратегия Пайпера — стратегия господства над своей судьбой — оказывается неэффективна: хотя он декларирует, что не страдает и не чувствует себя униженным, описанная им сцена всегда возвращается как событие боли и унижения. Нужно, однако, помнить, что метафора театра не устанавливает смысл внутри дискурса о Катастрофе. Она только создает иллюзию упорядочивания поля знания и поля зрения, поддавая их идеологическому контролю. Метонимия же связана с эффектом удивления, нежелательного присутствия — это инцидент, который нарушает поле зрения, а не упорядочивает его. Он инициирует активность аффекта. Образ, историчность которого была утрачена, вызывает шок. Метонимия — это присутствие в месте, где ожидалось отсутствие. Она противостоит идеологиям скорби. Она ставит вопрос о неочевидной связи между сегодня и вчера. Между спасением и Катастрофой. Если ей даже не дано устанавливать значения, как метафоре, она позволяет на что-то указать, она к чему-то отсылает[121].
Элко Руния устанавливает сегодня парадигму новой историографии, основанной на метонимии: поскольку его занимает, как распределяется присутствие и отсутствие прошлого в переживании настоящего. Можно сказать, что польский послевоенный театр был полигоном таких взаимоотношений с прошлым. Основанных не на ощущении абсолютного разрыва и потере доступа к значениям, но на постоянно возобновляемом вопросе о смысле неожиданно обнаруживаемого присутствия — ощущаемого в публичном пространстве как присутствие нежелательное. Руния ссылается на роман Бальзака «Полковник Шабер»: «В этой истории — в которой можно найти квинтэссенцию метонимии — Шабер, считавшийся убитым в битве при Эйлау в 1807 и с тех пор „присутствующий в отсутствии“ только в качестве некоего имени — всплывает на поверхность в Париже времен Луи-Филиппа в качестве грязного, вонючего, неприятного, но очень живучего и очень осязаемого присутствия. Бальзак прилагает особые усилия, чтобы подчеркнуть контраст между ужасающим возвращением Шабера и принципом преемственности, которая с точки зрения закона обосновывает весь период. Полковник, который был похоронен в братской могиле и который выбрался на поверхность, используя „геркулесову“ кость в качестве рычага, — это метонимическая фистула, которая скрепляет остепенившуюся Реставрацию с

Книга двоюродной сестры Владимира Высоцкого, Ирэны Алексеевны Высоцкой посвящена становлению поэта и артиста, кумира нескольких поколений, истории его семьи, друзьям и недругам, любви и предательству, удачам и разочарованиям. В книгу вошли около 200 уникальных фотографий и документов, почти все они публикуются впервые. В ней множество неизвестных эпизодов из детства Высоцкого, позволяющие понять истоки формирования его личности, характера и творчества. Книга будет интересна как давним поклонникам Высоцкого, так и всем интересующимся творчеством поэта, барда и актера.

Книга В. М. Красовской посвящена великой русской танцовщице Анне Павловой. Эта книга — не биографический очерк, а своего рода эскизы к творческому портрету балерины, прославившей русское искусство во всем мире. Она написана как литературный сценарий, где средствами монтажа отдельных выразительных «кадров» воссоздается облик Павловой, ее внутренний мир, ее путь в искусстве, а также и та художественная среда, в которой формировалась индивидуальность танцовщицы.

В книге описана форма импровизации, которая основана на историях об обычных и не совсем обычных событиях жизни, рассказанных во время перформанса снах, воспоминаниях, фантазиях, трагедиях, фарсах - мимолетных снимках жизни реальных людей. Эта книга написана для тех, кто участвует в работе Плейбек-театра, а также для тех, кто хотел бы больше узнать о нем, о его истории, методах и возможностях.
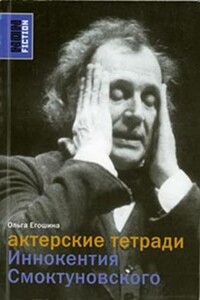
Анализ рабочих тетрадей И.М.Смоктуновского дал автору книги уникальный шанс заглянуть в творческую лабораторию артиста, увидеть никому не показываемую работу "разминки" драматургического текста, понять круг ассоциаций, внутренние ходы, задачи и цели в той или иной сцене, посмотреть, как рождаются находки, как шаг за шагом создаются образы — Мышкина и царя Федора, Иванова и Головлева.Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся проблемами творчества и наследием великого актера.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Основанная на богатом документальном и критическом материале, книга представляет читателю широкую панораму развития русского балета второй половины XIX века. Автор подробно рассказывает о театральном процессе того времени: как происходило обновление репертуара, кто были ведущими танцовщиками, музыкантами и художниками. В центре повествования — история легендарного Мариуса Петипа. Француз по происхождению, он приехал в молодом возрасте в Россию с целью поступить на службу танцовщиком в дирекцию императорских театров и стал выдающимся хореографом, ключевой фигурой своей культурной эпохи, чье наследие до сих пор занимает важное место в репертуаре многих театров мира. Наталия Дмитриевна Мельник (литературный псевдоним — Наталия Чернышова-Мельник) — журналист, редактор и литературный переводчик, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
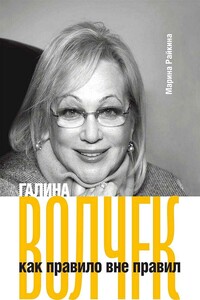
Галина Волчек — это не просто женщина, актриса и главный человек одного из самых известных театров страны — «Современника». Она живет со своей очень нестандартной системой координат. Волчек ненавидит банальности и презирает предателей. Она не признает полутонов в человеческих отношениях и из нюансов творит свой театр. Гармония несочетаемого — самая большая загадка жизни и творчества первой леди российского театра Галины Волчек. В оформлении 1-й стороны обложки использована фотография О. Хаимова.
