Польская хонтология. Вещи и люди в годы переходного периода - [3]
Шабловский предвидел, что восьмидесятые годы дойдут до нас в своей глобальной версии. Так и случилось: телевизионные развлечения, клубные мероприятия, фотосессии в журналах неизбежно связали восьмидесятые со словом «китч». Воспоминания сопровождались несколько смущенной улыбкой – какие у нас были ужасные прически, какой пластиковой была музыка, которую мы слушали! На вечера воспоминаний охотно приглашали вернувшийся к жизни дуэт Modern Talking.
Более поздний период кажется еще призрачнее. Статьи или телевизионные программы о девяностых годах рассказывают об их второй половине часто без польского контекста. Поскольку в них сплошь да рядом высказываются люди, которые росли уже при интернете, во всяком случае в глобализованном мире. Они припоминают то же самое, что их ровесники из Германии или США – и мы видим массу пружинок неоновой расцветки, красочных роликов, яиц тамагочи, фотографий бойз-бендов и кадров из «Беверли-Хиллз 90210». Удивительно, но именно этот сериал сегодня считается наиболее символичным для польского восприятия того десятилетия, а не более популярные «Северная сторона», «Чудесные годы» или приключения Чарльза «Корки» в «Жизнь продолжается». Но так случается с явлениями, которым позднее – в результате какой-то унифицированной мутированной коллективной памяти – приходится «определять десятилетие». Отрезвление может прийти при взгляде на списки хитов тех времен, которые мы считаем первопроходческими, лучшими в музыкальном отношении. Когда мы просматриваем архивные записи Top of the Pops, выясняется что панк и нью-вейв были тогда гораздо менее распространены, чем конфетный Клифф Ричард или детский хор, поющий «Только у бабушки». Рассказанные воспоминания обычно идеализированы – либо благодаря туману ностальгии, либо из-за варшавоцентричной точки зрения, с позиций которой волей-неволей все кажется быстрее, лучше, она подразумевает успех и светлое будущее. Но вне Варшавы мир существовал потихоньку, в более устойчивых формах, не обращая внимания на условные границы. Я совершенно убедилась в этом уже в 1995 году, заглянув в тетрадь «золотых мыслей», где делали записи мои одноклассницы. В ответ на вопрос о любимой музыке обычно появлялось не то, о чем писал Popcorn, а то, что несколько лет назад слушали их родители и что было дома на кассетах: Queen или СС Catch.
В самый разгар работы над книгой произошло лобовое столкновение двух политических легенд: одна о двадцати пяти годах счастья и свободы, другая о двадцати пяти годах зловещей матрицы. Наверное, сработал инстинкт самосохранения, потому что я решила, что не стану влипать ни в какие мифологии, сфабрикованные на основе фактических событий (это не значит, что я ни разу их не упомяну). Разумеется, ничто не берется ниоткуда, и зафиксировать политические и экономические причины различных явлений было необходимо, но решающим здесь прежде всего была моя приверженность школе исследования мира в рамках микроистории, истории, увиденной сквозь призму частной сферы и антропологии повседневности под знаком Роха Сулимы.
Сплетение событий, которое привело к появлению этой книги, и в первую очередь то, что я обратила внимание не только на то, что, но и на то, как происходит, не было бы возможным, если бы не мое, случайное, но удачно выбранное образование. Одна из первых вещей, которым учится каждый студент или студентка этнологии и антропологии, это предостережение и в то же время поощрение: полученный аппарат исследования действительности надолго остается в памяти. Этот аппарат позволяет ощутить своеобразие окружающего мира, учит, что нет неинтересных вещей. Учит еще и тому, что, поскольку все может быть интересным, нужно как следует задуматься, прежде чем дать поверхностную оценку или досадить кому-нибудь, поглядывая со своей башни из слоновой кости. Так же легко поддаться искушению, когда работаешь с материалом, во многих отношениях технически нескладным, предварительным, бедным, – легко судить с перспективы наблюдателя из будущего. В то же время тот факт, что это зачастую наш личный опыт, мой и, возможно, читателей, дает какое-то право на некоторые вещи сердиться, на другие сетовать, а над некоторыми смеяться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.

Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
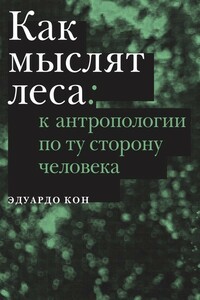
В своей книге «Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека» Эдуардо Кон (род. 1968), профессор-ассистент Университета Макгилл, лауреат премии Грегори Бэйтсона (2014), опирается на многолетний опыт этнографической работы среди народа руна, коренных жителей эквадорской части тропического леса Амазонии. Однако цель книги значительно шире этого этнографического контекста: она заключается в попытке показать, что аналитический взгляд современной социально-культурной антропологии во многом остается взглядом антропоцентричным и что такой подход необходимо подвергнуть критике.