Политэкономия соцреализма - [5]
Но труд есть не только «основа всего», о чем не переставала твердить советская литература. Он есть рутина и как таковой – по определению – лишен сюжета и ускользает от нарратива. Лишив труд интереса, советская культура пыталась сделать его интересным. Но превратить труд в нарратив, можно только романтизировав его, превратив в «творчество». В таком виде, превращенный в дискурс, труд обретает не только сюжетность, но и овнешняется – он начинает нечто описывать (а не только описываться). «Романтизация» труда в советском искусстве не просто превращает его в объект: став объектом и обретя фабулу, труд тем самым сам стал фабулой «производственных отношений», но, входя в этом качестве в соцреалистический «master‑plot», труд полностью дереализуется.
Растекаясь в широком потоке «производственных отношений», труд перестает быть самим собой. Подобный способ репрезентации труда родился из его эстетизации еще в эпоху первых пятилеток: «Сооружения пятилетки будут представляться сфинксами, – утверждал В. Перцов в середине 1930–х годов, – покуда мы не сумеем раскрыть в них отпечаток не только руки и мысли, уменья и воли, но и всей жизни, всей истории нового общественного человека. […] О вещах можно писать как о вещах, но можно и раскрыть в них отношения людей. Задача искусства состоит, по преимуществу, в последнем […] новые, рожденные нами вещи, воплощают в себе новые отношения людей…»[3]
Подход к проблеме труда в сталинизме сформировался в результате отказа как от «производственнического фетишизма», так и от «фетишизации труда при капитализме». Советская политэкономия не переставала повторять: «нам нужен не всякий рост производительных сил, а такой, который обеспечивает укрепление и развитие социалистических производственных отношений, содействует ускорению нашего движения к высшей фазе коммунизма»[4]. То же относится и к производительности труда и к производству в целом, которые тоже нужны были не «сами по себе». Как утверждала советская эстетика, «рабочая тема всегда была лишь частью более крупного подразделения литературы, трактующего о системе человеческих взаимоотношений в индустриальном коллективе»[5]. И, можно добавить, не только в «индустриальном коллективе», но и в семье, и в «личной жизни», о чем повествовали романы, пьесы, фильмы (как мы увидим, жанры социальной, политической и даже экономической истории в советских условиях конгруэнтны жанрам культурной истории, каковыми неожиданно выступают производственный роман или колхозная поэма).
«Труд» как центр «производственных отношений», а сами эти «отношения» как центр социального дискурса являются продуктом воспроизводимого в сталинизме «пространства изоляции», которое, как показал М. Фуко, распространяется на все общество и подчиняется своим законам. Целая мифология работает на то, чтобы создать из этого брутально репрессивного пространства «бесконечную плодотворность», в основе которой лежит, по словам Фуко, «пустой и бесплодный труд». Все направлено на то, чтобы «очистить пространство изоляции от всех его реальных противоречий, приспособить его, по крайней мере в области воображаемого, к требованиям общества и тем самым изменить его единственное значение – значение изгнания, исключения, придав ему некий положительный смысл. Область, образующая своего рода негативную пограничную зону государства, стремилась превратиться в плотную среду, в которой общество могло бы узнать себя и на которую оно было бы в состоянии распространить свою систему ценностей»[6].
Это воображаемое не только заполнялось, но и создавалось соцреализмом. Важную роль играл здесь также политэкономический дискурс. В своей книге «Зеркало производства» Ж. Бодрийяр, используя лакановские категории «воображаемого» и «зеркальной стадии», показал, что в «зеркале производства» (т. е. в политической экономии и марксизме) люди приходят к «воображаемому» пониманию производства, труда, ценности, своего места в мире, человеческой природы и т. д.[7] Однако, полагает Бодрийяр, эпоха производства завершилась, уступив место эпохе производства и распространения знаков, которые заменили производство объектов и стали новой формой социального контроля («контроля кодом»[8]). «Суперидеология» знака не только фактически заменила политэкономию как теоретическую базу системы производства, но и полностью изменила ее: «знак более вообще ничего не десигнирует. Он подходит к своему действительному лимиту, где его референция относится только к другим знакам. Вся реальность превращается в поле «семиургической» манипуляции и структурной симуляции»[9]. В этом симулятивном пространстве «труд более не выступает в качестве силы производства, но сам является лишь «знаком среди знаков»»[10].
И все же советская специфика обязывает нас пристальнее приглядеться к отмеченному выше превращению «способа производства» («mode of production») в «код производства» («code of production»). По точному замечанию Михаила Рыклина, «наше производство не является в первую голову производством конечного продукта, оно является прежде всего производством форм общения, неким полноценным эрзацем жизни массы»
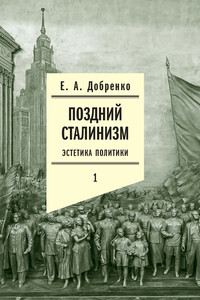
Новое фундаментальное исследование известного историка сталинской культуры Евгения Добренко посвящено одному из наименее изученных периодов советской истории – позднему сталинизму. Рассматривающая связь между послевоенной советской культурной политикой и политической культурой, книга представляет собой культурную и интеллектуальную историю эпохи, рассказанную через анализ произведенных ею культурных текстов – будь то литература, кино, театр, музыка, живопись, архитектура или массовая культура. Обращаясь к основным культурным и политическим вехам послевоенной эпохи, автор показывает, как политика сталинизма фактически следовала основным эстетическим модусам, конвенциям и тропам соцреализма.

Джамбул — имя казахского певца-импровизатора (акына), ставшее одним из наиболее знаковых имен советской культуры конца 1930-х — начала 1950-х годов. При жизни Джамбула его сравнивали с Гомером и Руставели, Пушкиным и Шевченко, учили в школе и изучали в институтах, ему посвящали стихи и восторженные панегирики, вручались правительственные награды и ставились памятники. Между тем сам Джамбул, певший по-казахски и едва понимавший по-русски, даже если бы хотел, едва ли мог оценить те переводные — русскоязычные — тексты, которые публиковались под его именем и обеспечивали его всесоюзную славу.

Новое фундаментальное исследование известного историка сталинской культуры Евгения Добренко посвящено одному из наименее изученных периодов советской истории – позднему сталинизму. Рассматривающая связь между послевоенной советской культурной политикой и политической культурой, книга представляет собой культурную и интеллектуальную историю эпохи, рассказанную через анализ произведенных ею культурных текстов – будь то литература, кино, театр, музыка, живопись, архитектура или массовая культура. Обращаясь к основным культурным и политическим вехам послевоенной эпохи, автор показывает, как политика сталинизма фактически следовала основным эстетическим модусам, конвенциям и тропам соцреализма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
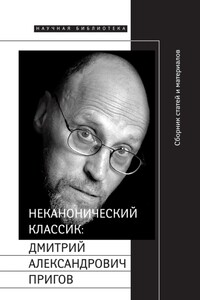
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.
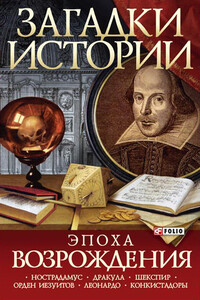
Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.
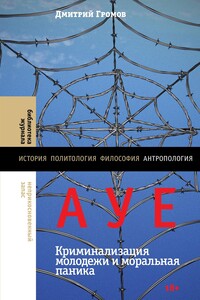
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.