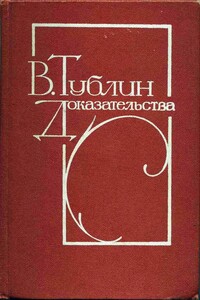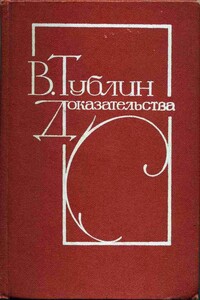Покидая Эдем - [13]
Вот что он делал и чем он жил — воображение, чувства, способность к перевоплощению и трансформации. Проектирование? Может быть, может быть. Но для него это была жизнь. Иное ее измерение, и только. А поскольку природа никогда не повторяется в отличие от обозначающих ее условных знаков, которые всегда одни и те же, то и сам он, Блинов, всякий раз бывал иным, не похожим на предыдущего, и всякий раз он испытывал разные чувства.
Так, например, в прошлый раз, совсем недавно, он был маленьким озером где‑то в тридцати или сорока километрах от Калининграда. Озеро лежало в уютном углублении меж холмов. Холмы были покрыты кудрявой порослью зелени, красные черепичные крыши казались лодками, застывшими в зеленом сказочном море. У самого берега росла липа в несколько обхватов. В дупле этой липы догадливостью местных властей была поставлена вкруговую скамейка со столом в самой середине, и особым шиком как у местных жителей, так и у заезжих гостей считалось посидеть там, в этом природном и чуть лишь облагороженном цивилизацией гроте, с бутылкой холодного пива, которое предусмотрительно продавалось здесь же.
Поблизости и далее по плоскому озерному берегу и на гористом его склоне не было недостатка в многолетних деревьях; там тоже росли и липы и каштаны, среди которых можно было, пожалуй, найти деревья в обхват и более, но, бесспорно, второго такого дерева не было. Говаривали разное — что этой липе двести лет, триста, четыреста, но все это, естественно, было не более чем досужие разговоры; узнать это при жизни липы никому не было дано. Для этого надо было спилить ее или трансформироваться каким‑либо волшебным способом. Вот тут Блинов и был на высоте, ибо он в это время был озером и уже по одному этому обстоятельству оказывался постарше липы — любой, пусть даже очень старой, и, если бы он мог как‑то довести свои знания до людей, сидящих в тенистой прохладе с бутылкой пива, он сказал бы, сколько этой липе лет, назвал бы ее возраст и точную цифру — пятьсот шестьдесят два года. Первый тощенький и довольно жалкий побег проклюнулся сквозь землю и потянулся ввысь на этом самом месте ровно за год до битвы при Грюнвальде, о которой потом шло немало разговоров. Вот как оно было: 1409 год. А что до того, что липе никто не давал ее лет, — здесь причина та, что человеческий разум может сознательно охватывать временные периоды, лишь соразмерные с пределами жизни самого человека, после которых все становится настолько зыбким и сомнительным, что для человека все едино уже — двести ли, триста ли лет.
Другое дело, если бы человеческий век был хоть как‑то соразмерен жизни природы, — это, надо надеяться, избавило бы нас от почти вынужденной суетливости и спешки и, может быть, заставило бы по‑иному взглянуть на мир и его слишком уж стремительно меняющиеся внешние приметы.
День заполнялся звуками.
Но сначала была тишина, пронзительная и трогательная, потом ее нарушало эхо шагов, медленно уходящее вверх. Сварливое поскрипывание ключа. Шелест разворачиваемой кальки. Тихое потрескивание карандашной стружки — острое лезвие беззвучно вонзается в тощее деревянное тельце, укорачивая и без того короткий карандашный век. Тишина. За окном — пролитое молоко тумана, в радиаторе довольно и сыто булькает вода, потрескивает сухой воздух. Мягкий грифель тихо шуршит, скользя вдоль линейки, — линии, линии, линии. Кривые: ножка циркуля твердо проходит сквозь девственность листа, пальцы легким вращательным движением заставляют блестящий металлический сустав покорно поворачиваться налево и направо — еще раз… и еще. Тонкая выносная линия. Четкие тонкие печатные буквы. Стрелка. R=30.
Звуки. Они возникают внезапно — тонкие трещины на безмолвном льду тишины. Шум шагов, затем еще и еще — и вот уже топот, гул, сбитое с толку эхо, звуки голосов, хлопанье дверей под все усиливающийся, словно приближающийся прибой, грохот…
Еще одна выносная линия. Карандаш движется по бумаге бесшумно — его тихое соло уже не услыхать. Шум, грохот, симфония разрозненных звуков все ближе, все грознее — и тут он делает попытку уйти, скрыться в глубине, подобно пловцу, уходящему с поверхности туда, где темно и тихо. И он уходит — глубже, глубже, еще и еще. Теперь он снова ощущает себя в безопасности и тишине.
Толстые линии, тонкие линии, выносные линии. Стрелки. Значки, цифры и буквы, выведенные четким печатным шрифтом.
Он работает. Он уходит в переплетение толстых и тонких линий все глубже и глубже, и гул теперь доносится до него едва ощутимым содроганием воздуха, как если бы он доносился из другого мира — мира звуков.
— Здравствуйте…
— Здравствуйте…
— Здравствуйте…
— Да не бойтесь ничего; вы же знаете, что он ничего не слышит. Николай Николаевич!.. Ну, убедились теперь? Он не слышит. Костя, как вчерашний преферанс?..
Он — не слышит.
Он — это я.
Он — это я. Я похож на пловца, нырнувшего в глубину, в темнеющий провал. Плотные безмолвные слои, смыкающиеся за спиной, надежно охраняют меня от угрожающего урагана запахов и звуков того мира, от которого я пытаюсь скрыться. Он — это я. Но разве я не слышу? Я не хочу слышать

Небольшая деликатно написанная повесть о душевных метаниях подростков, и все это на фоне мифов Древней Греции и первой любви.

В эту книгу вошли шесть повестей, написанных в разное время. «Испанский триумф», «Дорога на Чанъань» и «Некоторые происшествия середины жерминаля» составляют цельный цикл исторических повестей, объединенных мыслью об ответственности человека перед народом. Эта же мысль является основной и в современных повестях, составляющих большую часть книги («Доказательства», «Золотые яблоки Гесперид», «Покидая Элем»). В этих повестях история переплетается с сегодняшним днем, еще раз подтверждая нерасторжимое единство прошлого с настоящим.Компиляция сборника Тублин Валентин.
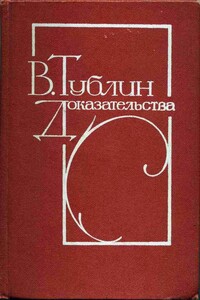
Цезарь разбил последних помпеянцев в Испании. Он на вершине успеха. Но заговорщики уже точат кинжалы…

Это книга о наших современниках, о поколении, в чье детство вошла война и послевоенные годы, а становление совпало с нелегким временем застоя. Но герои книги пытаются и в это время жить, руководствуясь высокими этическими принципами.Становление личности — главная тема повести «Где-то на Севере» и цикла рассказов.Герой романа «Заключительный период» пытается подвести итоги своей жизни, соотнося ее с идеалами нравственными, которые вечны и не подвержены коррозии времени.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Перед вами настоящая человеческая драма, драма потери иллюзий, убеждений, казалось, столь ясных жизненных целей. Книга написана в жанре внутреннего репортажа, основанного на реальных событиях, повествование о том, как реальный персонаж, профессиональный журналист, вместе с семьей пытался эмигрировать из России, и что из этого получилось…
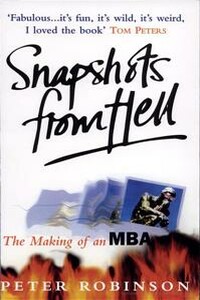
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

С чего начинается день у друзей, сильно подгулявших вчера? Правильно, с поиска денег. И они найдены – 33 тысячи долларов в свертке прямо на земле. Лихорадочные попытки приобщиться к `сладкой жизни`, реализовать самые безумные желания и мечты заканчиваются... таинственной пропажей вожделенных средств. Друзьям остается решить два вопроса. Первый – простой: а были деньги – то? И второй – а в них ли счастье?