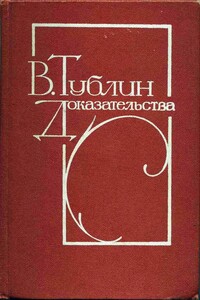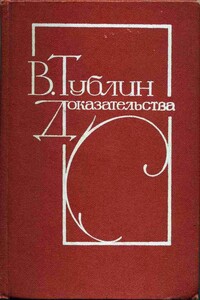Покидая Эдем - [11]
— Ты готов? — спрашивает вздрагивающий от напряжения голос.
Он кивает. Он завидует человеку, на груди которого вьется белая веревка от секундомера, — сам он уже не волнуется. А жаль — словно умерло что‑то…
— На старт…
— Внимание…
Выстрел.
Черт знает что…
Большая, покрытая жесткой черной шерстью рука еще некоторое время продолжает держать телефонную трубку. На перекидном календаре четкая запись: «10 февраля — сдача проектной документации по Суходольску». А вот и сама документация: толстая пачка чертежей, уже сложенных по единому формату, но еще не переплетенных, громоздится здесь же на широком столе. Телефонная трубка издает тревожные короткие гудки — отбой, отбой, но рука все держит черную трубку, словно не в силах расстаться с ней. Наконец трубка опускается на рычаг. Тревожные гудки замирают — но не замирает и никуда не исчезает раздирающая внутренности боль, от которой кривятся прикушенные губы. За окном оседает густой туман, настольная лампа бросает на стол желтое продолговатое пятно. Кругом тишина — стоит на мгновение закрыть глаза, и забываешь, где ты и что с тобой. Где это он слышал: «Умереть — уснуть…»
Главный инженер проекта Кузьмин заставляет себя подняться из‑за стола. Щелчок, выключена лампа, продолговатое желтое пятно на поверхности стола исчезает. Все погружается в полумрак. Через окно, занавешенное чуть поредевшим туманом, едва‑едва пробивается бессильный утренний свет. Как приятно прижать лоб к холодному стеклу… Что‑то происходит… Чертежи на широком столе застыли бесформенной грудой никому не нужных бумаг, перекидной календарь кажется огромной бабочкой, раскинувшей бумажные тонкие крылья. Как это называется — «взять себя в руки»? Сейчас, одну минуту, сейчас… Он возьмет себя в руки, он умеет это делать. Внутри у него сидит зверь. Сидит и ждет своего часа. Что бы он сам ни говорил, что бы ни говорили другие, какие бы чудеса ни творились вокруг, зверь, сидящий внутри, ждет своего часа. Час этот приближается. Зверь сидит глубоко внутри и ждет. Перед этим непреложным фактом бледнеет все творящееся вокруг, бледнеет и теряет смысл, ибо с гибелью человека исчезают все нити, тонкие, надо признать, нити, связывающие его с остающимся в живых человечеством и его достижениями. Исчезает весь мир. А что остается? Остается надпись на могильной плите, которая может звучать примерно так: «Кузьмин В. В., подполковник в отставке». И все. Таков итог прожитых пятидесяти четырех лет. Да еще, быть может, за его гробом на подушках пронесут его ордена. Хотя нет, ордена не пронесут — теперь смерть механизирована. Медленные шествия с подушками, на которых лежат боевые ордена, отменены, что, возможно, и правильно — во‑первых, помеха уличному движению, во‑вторых, никому не нужное напоминание о неизбежности исчезновения.
Умереть? Это совсем не страшно, бывшему подполковнику тем более. Смерть ему не в новинку: он видел ее, видел ее не раз, всякую, видел кое‑что и похуже смерти. Но только теперь он может сказать, что видеть — это еще не все. Одно дело упасть и не встать во время атаки, когда кругом, кромсая человеческое мясо, хлещет металлический дождь, другое — сидеть и ждать того дня, когда маленький неутомимый зверек, невидимая тебе безжалостная тварь выжрет тебя изнутри. «Для того чтобы поставить окончательный и точный диагноз, необходима операция».
Тонкие губы изображают усмешку. Для того чтобы поставить диагноз, человека надо предварительно распороть, как треску. Не слишком ли много за сомнительное удовольствие узнать сомнительный диагноз, который, уничтожая оставляющие надежду сомнения, ничего не может изменить? Нет. Он не доставит медицине такого удовольствия. Свое любопытство ей придется удовлетворять, вспарывая кого‑нибудь другого. Главное — отогнать бесконечно возникающую жалкую мысль: «а что, если…» Главное — убедить себя, что у вспоротой трески не может быть никакого «если»: после того как в тебя заглянут, тебе уже не встать. До самого своего конца, который уже не за горами, ты будешь перебираться из одной больницы в другую: сначала погостишь на Березовой аллее на Крестовском острове, затем перекочуешь поближе к вокзалу, в Военно‑медицинскую академию, оттуда рукой подать до Песочной. Из Песочной тебя привезут домой. Это произойдет примерно за месяц до того, как тебе придется отправиться в самый последний поход — под камень с надписью.
«Вы можете взять своего больного, постельный режим ему более показан в домашних условиях». Вот как это будет звучать. Вот с какими словами медицина откажется от тебя, какими словами она признает свое бессилие перед маленьким неутомимым зверьком, что день за днем и час за часом, сантиметр за сантиметром прогрызает твои внутренности. И так будет продолжаться, пока ты не испустишь дух, — ко всеобщему облегчению людей, которые вынуждены будут промаяться с тобою этот последний месяц. Какую неоценимую услугу окажешь ты им, когда избавишь их от необходимости каждодневно созерцать твою пожелтевшую кожу и запавшие глаза. Откройте наконец окна и впустите свежий воздух! В комнате, где долго лежал умирающий, еще долго нечем дышать, словно сама смерть цепляется за стены, не желая уходить, — а ведь здесь спешка и ненужна и неуместна, ибо от

Небольшая деликатно написанная повесть о душевных метаниях подростков, и все это на фоне мифов Древней Греции и первой любви.

В эту книгу вошли шесть повестей, написанных в разное время. «Испанский триумф», «Дорога на Чанъань» и «Некоторые происшествия середины жерминаля» составляют цельный цикл исторических повестей, объединенных мыслью об ответственности человека перед народом. Эта же мысль является основной и в современных повестях, составляющих большую часть книги («Доказательства», «Золотые яблоки Гесперид», «Покидая Элем»). В этих повестях история переплетается с сегодняшним днем, еще раз подтверждая нерасторжимое единство прошлого с настоящим.Компиляция сборника Тублин Валентин.
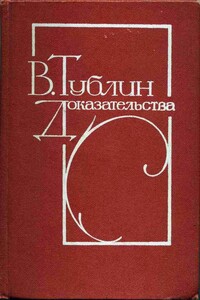
Цезарь разбил последних помпеянцев в Испании. Он на вершине успеха. Но заговорщики уже точат кинжалы…

Это книга о наших современниках, о поколении, в чье детство вошла война и послевоенные годы, а становление совпало с нелегким временем застоя. Но герои книги пытаются и в это время жить, руководствуясь высокими этическими принципами.Становление личности — главная тема повести «Где-то на Севере» и цикла рассказов.Герой романа «Заключительный период» пытается подвести итоги своей жизни, соотнося ее с идеалами нравственными, которые вечны и не подвержены коррозии времени.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Перед вами настоящая человеческая драма, драма потери иллюзий, убеждений, казалось, столь ясных жизненных целей. Книга написана в жанре внутреннего репортажа, основанного на реальных событиях, повествование о том, как реальный персонаж, профессиональный журналист, вместе с семьей пытался эмигрировать из России, и что из этого получилось…
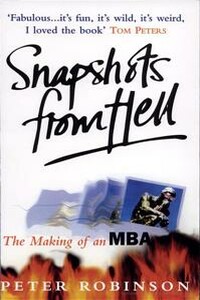
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

С чего начинается день у друзей, сильно подгулявших вчера? Правильно, с поиска денег. И они найдены – 33 тысячи долларов в свертке прямо на земле. Лихорадочные попытки приобщиться к `сладкой жизни`, реализовать самые безумные желания и мечты заканчиваются... таинственной пропажей вожделенных средств. Друзьям остается решить два вопроса. Первый – простой: а были деньги – то? И второй – а в них ли счастье?