Поэзия Латинской Америки - [110]
ХОРХЕ ЭНРИКЕ АДОУМ[298]
Золото Атауальпы[299]
Перевод С. Гончаренко
Корни родины
Перевод Т. Глушковой
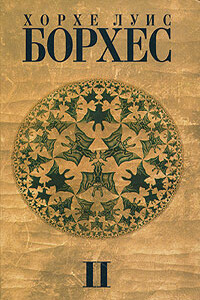
Произведения, входящие в состав этого сборника, можно было бы назвать рассказами-притчами. А также — эссе, очерками, заметками или просто рассказами. Как всегда, у Борхеса очень трудно определить жанр произведений. Сам он не придавал этому никакого значения, создавая свой собственный, не похожий ни на что «гипертекст». И именно этот сборник (вкупе с «Создателем») принесли Борхесу поистине мировую славу. Можно сказать, что здесь собраны лучшие образцы борхесовской новеллистики.

Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Тексты Борхеса, будь то художественная проза, поэзия или размышления, представляют собой своеобразную интеллектуальную игру – они полны тайн и фантастических образов, чьи истоки следует искать в литературах и культурах прошлого. Сборник «Всеобщая история бесчестья», вошедший в настоящий том, – это собрание рассказов о людях, которым моральное падение, преступления и позор открыли дорогу к славе.

Борхес Х.Л. 'Стихотворения' (Перевод с испанского и послесловие Бориса Дубина) // Иностранная литература, 1990, № 12, 50–59 (Из классики XX века).Вошедшие в подборку стихи взяты из книг «Творец» (“El hacedor”, 1960), «Другой, все тот же» (“El otro, el mismo”, 1964), «Золото тигров» (“El oro de los tigres”, 1972), «Глубинная роза» (“La rosa profunda”, 1975), «Железная монета» (“La moneda de hierro”. Madrid, Alianza Editorial, 1976), «История ночи» (“Historia de la noche”. Buenos Aires, Emecé Editores, 1977).
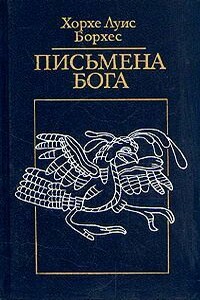
Мифология, философия, религия – таковы главные темы включенных в книгу эссе, новелл и стихов выдающегося аргентинского писателя и мыслителя Хорхе Луиса Борхеса (1899 – 1986). Большинство было впервые опубликовано на русском языке в 1992 г. в данном сборнике, который переиздается по многочисленным просьбам читателей.Книга рассчитана на всех интересующихся историей культуры, философии, религии.
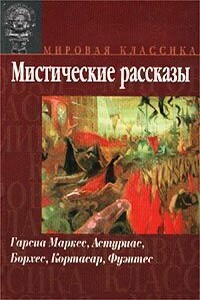
В увлекательных рассказах популярнейших латиноамериканских писателей фантастика чудесным образом сплелась с реальностью: магия индейских верований влияет на судьбы людей, а люди идут исхоженными путями по лабиринтам жизни.
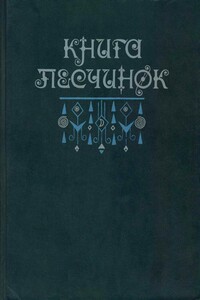
Сокровищница индейского фольклора, творчество западноевропейских и североамериканских романтиков, произведения писателей-модернистов конца XIX века — вот истоки современной латиноамериканской фантастической прозы, представленной в сборнике как корифеями с мировым именем (X. Л. Борхес, Г. Гарсиа Маркес, X. Кортасар, К. Фуэнтес), так и авторами почти неизвестными советскому читателю (К. Пальма, С. Окампо, X. Р. Рибейро и др.).
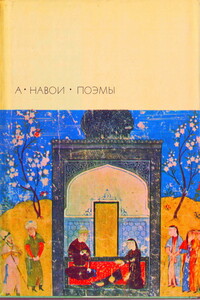
«Фархад и Ширин» является второй поэмой «Пятерицы», которая выделяется широтой охвата самых значительных и животрепещущих вопросов эпохи. Среди них: воспевание жизнеутверждающей любви, дружбы, лучших человеческих качеств, осуждение губительной вражды, предательства, коварства, несправедливых разрушительных войн.

Шекспир — одно из чудес света, которым не перестаешь удивляться: чем более зрелым становится человечество в духовном отношении, тем больше открывает оно глубин в творчестве Шекспира. Десятки, сотни жизненных положений, в каких оказываются люди, были точно уловлены и запечатлены Шекспиром в его пьесах.«Макбет» (1606) — одно из высочайших достижений драматурга в жанре трагедии. В этом произведении Шекспир с поразительным мастерством являет анатомию человеческой подлости, он показывает неотвратимость грядущего падения того, кто хоть однажды поступился своей совестью.

«К западу от Аркхема много высоких холмов и долин с густыми лесами, где никогда не гулял топор. В узких, темных лощинах на крутых склонах чудом удерживаются деревья, а в ручьях даже в летнюю пору не играют солнечные лучи. На более пологих склонах стоят старые фермы с приземистыми каменными и заросшими мхом постройками, хранящие вековечные тайны Новой Англии. Теперь дома опустели, широкие трубы растрескались и покосившиеся стены едва удерживают островерхие крыши. Старожилы перебрались в другие края, а чужакам здесь не по душе.

БВЛ - Серия 3. Книга 72(199). "Тихий Дон" - это грандиозный роман, принесший ее автору - русскому писателю Михаилу Шолохову - мировую известность и звание лауреата Нобелевской премии; это масштабная эпопея, повествующая о трагических событиях в истории России, о человеческих судьбах, искалеченных братоубийственной бойней, о любви, прошедшей все испытания. Трудно найти в русской литературе произведение, равное "Тихому Дону" по уровню осмысления действительности и свободе повествования. Во второй том вошли третья и четвертая книги всемирно известного романа Михаила Шолохова "Тихий Дон".