Поэзия и поэтика города - [7]
Студенческая молодежь осознавала себя поколением действия, — такой образ создан и Мицкевичем в «Оде к молодости» (не без влияния масонских идей). Облик виленского студенчества уже тогда начинал приобретать легендарные черты.
Первые их организации были тайными (шубравцы, филоматы), но очень скоро они включали большую часть университетской молодежи — филареты и «променистые» («лучистые»). Один из участников, Игнаций Домейко, например, вспоминал о тайных организациях, конспирации и т. п. как о своеобразной «необходимости времени» во всей Европе и в России[44]. В своих записках он изложил краткую историю виленских студенческих обществ и немало писал об их атмосфере, соединявшей в себе серьезность и веселые развлечения: «Тогда собирались группы филаретов… для чтения своих литературных и научных работ; меж собою были они ближе, чем с теми, кто к Обществу не принадлежал, помогали друг другу и в учебе, и в быту; искали друг друга в свободное время, в часы развлечений и прогулок, в которые, пожалуй, еще лучше проявлялись дух и характер Общества, чем в заседаниях»[45]. «Мы все между собой были коллеги и братья»[46].
3. Томаш Зан и «Лучистые» (Promieniści)
Наряду с учебной стороной жизни студентов следует иметь в виду и другую, не менее важную для них и тесно связанную с первой, и может быть, более известную горожанам. Здесь главенствуют элементы игры, шутки, розыгрыша, веселья: все это было значительной и важной частью их кружковых, литературных, а не только чисто дружеских отношений. Разыгрывались порою, может быть, и не совсем безобидные шутки — над офицерами русской армии, составлявшими также весьма колоритную группу в виленском городском пейзаже. Отношение студентов к офицерам (которое поддерживалось многими горожанами), учитывая их патриотические и нравственные устремления, конечно, было враждебным (примешивались и элементы традиционной борьбы штатских и военных). Свою роль играло и то, что некоторые из блестящих молодых офицеров, появлявшихся на всех увеселениях, пользовались благосклонностью не слишком патриотичной части виленских паненок. Чечот в письме к Мицкевичу (5.12.1821) заметил, что «поляки из-за москалей пошли вниз, а польки-шляхцянки — идут в гору!» (т. 3, 292). Об этом говорит и Мостицкий в упомянутой книге: «Не раз переходили они всякие границы, очерченные патриотическим долгом, в погоне за „блестящим и прекрасным мундиром“ генеральским, хотя бы под ним билось злое и вражье сердце»[47]. Станислав Пигонь (полонист, профессор университета в начале XX в.) объяснял эту «атмосферу испорченности» «отсутствием общественного мнения», которое осуждало бы подобное поведение[48]. В эпизоде на маскараде, описание которого он приводит по неопубликованному письму Чечота к Малевскому 30 января 1822 г., Пигонь видит нарастание протеста молодежи против недостойного поведения земляков.
Шутки над офицерами очень радовали сочувствовавших студентам горожан; вот эпизод, о котором рассказывают многие мемуаристы разных поколений. На одном из маскарадов студенты изобразили портного с гвардейским мундиром, приготовленным для заказчика; к мундиру бечевкой за носы и уши были привязаны три «паненки» (переодетые же студенты, конечно), а к спине «портного» был прикреплен плакатик: «Za mundurem panny sznurem» («за мундиром девицы вереницей»; здесь маскарадная сцена реализует метафору: «шнуром» привязаны и «шнуром» — т. е. цепочкой — следуют). Когда же весьма задетые этим выпадом офицеры попытались отомстить и нарядили кого-то из своих «академиком» с ослиными ушами, проворные студенты быстренько приклеили на спину этому фальшивому офицерскому студенту плакат: «Кандидат в гвардию»[49].
Эта молодежь открыла и обжила (в том числе и для литературы, что чрезвычайно важно) живописные окрестности города, где по весне они устраивали свои встречи, маевки (majówki): «…под открытым небом, в зеленой долине, при взаимной искренности, легче открывались сердца и проявлялась душа. Помню одну из этих милых сходок в воскресенье в фольварке под названием Маркутье, славном фиалками и пеньем соловьев, расположенном на Поплавах, в мильке от города, на высоком холме, с которого виднелись вдали Понары, Бекешова горка и все Вильно как на ладони»[50], — вспоминал Игнаций Домейко.
Излюбленными местами их прогулок редко становились городские улицы, обычно они отправлялись туда, где облюбовали себе «приютные уголки»: Погулянка, Ягеллоново поле, Острый конец, Маркутье, Антоколь, Тускуляны, «наши райские Поплавы» (Чечот — Петрашкевичу 12/24.2.1822; т. 4, 173), Рыбишки, Пацовы горы. Этими топонимами пестрят их письма. Окрестности Вильно всегда считались функциональной частью города (не «загородом») всеми, кто писал о нем.
Они наименовывают по-своему любимые места: дорожка, специально протоптанная в лесу за Россой, где происходили встречи и празднования именин, величается «Римской дорогой» и воспевается в стихах. Мицкевич грустит в Ковно без друзей о том, что «нет ежедневных прогулок на Антоколь. Шишки лежат навалом, никто не защищает эту фортецию… Я одинок в полном смысле. Каждая прогулка живо напоминает мне все антокольские сцены, все кажется, что вот, забегу к Сыпковой на кофе или к вам наверх» (т. 1, 200; упомянута известная среди студентов кофейня).

Книга известного историка Н.А. Корнатовского «Борьба за Красный Петроград» увидела свет в 1929 году. А потом ушла «в тень», потому что не вписалась в новые мифы, сложенные о Гражданской войне.Ответ на вопрос «почему белые не взяли Петроград» отнюдь не так прост. Был героизм, было самопожертвование. Но были и массовое дезертирство, и целые полки у белых, сформированные из пленных красноармейцев.Петроградский Совет выпустил в октябре 1919 года воззвание, начинавшееся словами «Опомнитесь! Перед кем вы отступаете?».А еще было постоянно и методичное предательство «союзников» по Антанте, желавших похоронить Белое движение.Борьба за Красный Петроград – это не только казаки Краснова (коих было всего 8 сотен!), это не только «кронштадтский лед».

В новой книге писателя Андрея Чернова представлены литературные и краеведческие очерки, посвящённые культуре и истории Донбасса. Культурное пространство Донбасса автор рассматривает сквозь судьбы конкретных людей, живших и созидавших на донбасской земле, отстоявших её свободу в войнах, завещавших своим потомкам свободолюбие, творчество, честь, правдолюбие — сущность «донбасского кода». Книга рассчитана на широкий круг читателей.
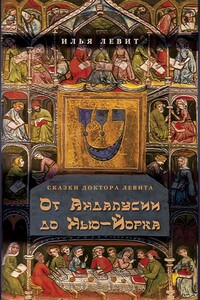
«От Андалусии до Нью-Йорка» — вторая книга из серии «Сказки доктора Левита», рассказывает об удивительной исторической судьбе сефардских евреев — евреев Испании. Книга охватывает обширный исторический материал, написана живым «разговорным» языком и читается легко. Так как судьба евреев, как правило, странным образом переплеталась с самыми разными событиями средневековой истории — Реконкистой, инквизицией, великими географическими открытиями, разгромом «Великой Армады», освоением Нового Света и т. д. — книга несомненно увлечет всех, кому интересна история Средневековья.
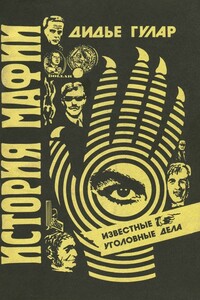
Нет нужды говорить, что такое мафия, — ее знают все. Но в то же время никто не знает в точности, в чем именно дело. Этот парадокс увлекает и раздражает. По-видимому, невозможно определить, осознать и проанализировать ее вполне удовлетворительно и окончательно. Между тем еще ни одно тайное общество не вызывало такого любопытства к таких страстей и не заставляло столько говорить о себе.

Монография представляет собой исследование доисламского исторического предания о химйаритском царе Ас‘аде ал-Камиле, связанного с Южной Аравией. Использованная в исследовании методика позволяет оценить предание как ценный источник по истории доисламского Йемена, она важна и для реконструкции раннего этапа арабской историографии.
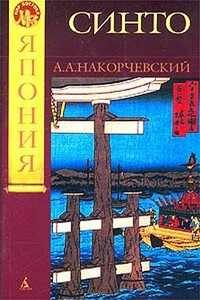
Слово «синто» составляют два иероглифа, которые переводятся как «путь богов». Впервые это слово было употреблено в 720 г. в императорской хронике «Нихонги» («Анналы Японии»), где было сказано: «Император верил в учение Будды и почитал путь богов». Выбор слова «путь» не случаен: в отличие от буддизма, христианства, даосизма и прочих религий, чтящих своих основателей и потому называемых по-японски словом «учение», синто никем и никогда не было создано. Это именно путь.Синто рассматривается неотрывно от японской истории, в большинстве его аспектов и проявлений — как в плане структуры, так и в плане исторических трансформаций, возникающих при взаимодействии с иными религиозными традициями.Японская мифология и божества ками, синтоистские святилища и мистика в синто, демоны и духи — обо всем этом увлекательно рассказывает А.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.