Поезд на рассвете - [31]
Три часа. Четвертый пошел. Скоро — Доля… Скоро промелькнет она в темени, неярко, грустно помаячит фонарями, колыхнет ветками акаций, поманит именем своим, — как тогда, два года назад, когда Юрка ездил в отпуск, — и останется далеко позади, и опять надолго для него исчезнет. А может — и навсегда. Потому что уже никто не покличет Юрку в эти места, не встретит и не спросит: «А помнишь?.. А знаешь?..» Годы прошли. Далеко укатилось время. Все быльем поросло… Ну тынялся когда-то по Устиновке, Раздольному, глядел голодным галчонком несмелый, обидчивый пацаненок в обносках да облатках — из городских беженцев. Мало ли их было тогда таких? Каждого не упомнить… А дальше — еще недоступней будет становиться для него Устиновка и все, что связано с нею. Ведь предстоит работа, работа и работа. Хочешь не хочешь — придется мало-мальски устраивать свое бездомное бытье. Для этого нужны и силы, и время, и деньги. В липучей житейской суете цепко берут в полон хлопоты-хомуты, способные заездить, ухайдакать самого ретивого «рысака». В общем, не до разъездов будет ему. По крайней мере — в ближайшие годы. Если же решится, надумает переехать в Сибирь, то это — надолго, и добираться сюда из такой дали станет совсем не просто. Даже в Ясногорск. В Устиновку — и подавно. «Так что — подъем, — скомандовал себе Юрка. — Иди глянь на свою Долю. Может — в остатний разок».
Он оделся, бесшумно спустился с полки, натянул верные кирзухи, вышел в коридор. Здесь уже — подпоясался, расправил китель под ремнем и, точно перед утренним построением, прошелся по мягкой, выметенной — ни соринки, ни пушинки нигде — дорожке. Все окна были закрыты, но Юрка и так почувствовал, что ночь за стеной вагона — сырая, прохладная, преддождевая. И не обманулся: далекий сполох высветил край неба, затрепетал рыбиной, на взлете ударил широким багряным хвостом и потух. Немного погодя всплеснулся другой — еще ярче и вольней прежнего. По сторонам шарахнулись и потонули в тучах пугливые отблески. «Заиграли красноперые, — подался Юрка к темному окну. — Будто голавли в омуте». Глядел, когда полыхнет опять. С неожиданным, как в детстве, азартом он стал замечать каждую вспышку зарницы, и ему захотелось оказаться там, далеко, где во всю раскованную весенним теплом силу гуляет, буйствует первая майская гроза и шумит, нежит землю теплый ливень… Вот такую же грозу пережидали они с Танюхой на гори́ще — чердаке, значит — хатенки, в которой жили мать и Юрка. Едва только загремело от края села — забрались под соломенную крышу, забились в уголок, точно воробьи, но дверцу-лаз не побоялись оставить открытой, — иначе ведь ничего не увидишь. И тут началось! Небо над селом, над всей степью, чудилось им, стало крошиться на большие и малые куски; ослепительно-синие, трескучие, как тысячи пастушьих батогов, блискавицы вонзались в землю, долбили ее с такой силой, что она, того и гляди, тоже расколется, разверзнет свои тартарары; а непроглядный, стеновой ливень-дурило вздумал, похоже, и огороды, и сады с клунями, и все, что захватил во дворах, смыть в балку, в речку. Сладостно и дрожко было Юрке с Танюхой слышать это и наблюдать. Они то завороженно таращили глаза и взвизгивали от восторга, то зажмуривались и замирали, охваченные жутью, но в хату не ушли, досидели на горище до конца грозы. Потом, услыхав пацанячий грай, побежали к речке. У-у-у! Оторопели, когда ее увидели. Слабосильная, мелководная речонка — летом в иных местах деркач коленки не замочит — загребла под себя всю долину, от склона до склона. Притопила луга, вербы и лозы на них, теребила, нахально раздергивала копички свежего сена, кое-где уже поставленные, пригибала, хлестала камыши. И ревела грозно: «Не подходи-и, уне-су-у-у!» Да и подходить было страшно. Схлынула, правда, быстро, вошла в берега. Одна была Юрке незадача: несколько дней, пока вода тащила сор и всякую муть, не клевала рыба, совсем не ловились ни красноперки, ни бубыри-простачки.
С той, устиновской поры Юрка полюбил дожди. Их любила и мать. Подолгу сидела она, бывало, в задумчивости у окна или у порога, перед распахнутой дверью, слушая густой, беспрерывный шум-звон капель и слитных струй, глуховатый клекот быстрых потоков, и взгляд ее при этом то был погружен в себя, то устремлялся далеко-далеко… О чем думала она? Юрка мог лишь догадываться. Обычно ему казалось, что в такие минуты мать вспоминала свое детство, себя — маленькой, как Танюха, девочкой, бегущей по теплым лужам, по мокрой, до первозданной чистоты вымытой придорожной траве, а потом — по-над речкой, приманчивой смелой стежкой, которая нетерпеливо рвется куда-то, зовет за собой и вдруг, с разгона, канет в заросли вскудлаченного, цепкого терна, и не знаешь, есть ее продолжение за той гущиной или нет, продираться через колючий заслон или вернуться восвояси. А может, сквозь клубящуюся мокрую завесу, сквозь огрузлый туман памяти — ей являлись молодые отец и мать, с которыми она так мало пожила, порадовалась, и могилы которых давно замыты дождями, никому не известны — словно и не было никогда на земле тех могил?.. Или она думала о его, Юркином, отце? И тогда, когда он был на передовой, под пулями, и после того, как написал им, чтобы не ждали, а она не верила и упорно продолжала ждать… Как-то, в июльский проливень, — они жили уже тогда в сердюковском доме, — Юрка застал мать на веранде особенно грустной. Он сел рядом с нею на табуретку. Долго молчал. И она молчала… Загремело. Дождь накатился валом. Хлынуло с крыши. Брызги полетели на веранду через порог. «О чем ты думаешь, мам?» — ненавязчиво спросил Юрка. «О тебе, сынок». Он удивился. «А чего про меня думать? Вот я, никуда не делся», — попробовал пошутить. Но серьезна осталась мать. Почему она тогда была такой, Юрка понял позже. Очевидно, уже в те дни, когда она стала болеть, ей не давало покоя, постоянно преследовало ее, — как это бывает у многих, — необъяснимое предчувствие какой-то катастрофы, чего-то неотвратимого, что должно с нею произойти, и она все больше тревожилась за сына, все чаще думала о том, как будет он без нее — один среди чужих людей, один в издерганном суровом мире, над которым вечно висит страх новой, следующей войны, который поныне грязнет в бесправии, нищете и насилии, не умея с ними совладать. Война, голодуха, мор лишили детства, радости — если не жизни — ее сверстников. То же выпало на долю Юрке, Танюхе, Толе. Их детство оборвалось двадцать второго июня. Они перетерпели, наравне со взрослыми перенесли войну — страшней всех прежних: смертей, урона — не счесть; вблизи увидели чужеземных захватчиков, расправы над советскими людьми; потеряли отцов, матерей, сестер и братьев; через край, сверх любой меры хлебнули страданий, надругательств, нужды, фашистской неволи. Бешеным палом порушило, перекорежило судьбы, обожгло души, смело в прорву стремления, надежды. И сразу, прежде времени, повзрослели они — Юрки, Тольки, Танюшки, повзрослели на целую войну… Огнем, случись, опалит молодой побег — сколько же надо дней, животворных соков незащищенному ростку, какая натуга нужна, неистребимая тяга к солнцу, чтобы опять воспрянуть, набрать силы и, несмотря ни на что, стать самим собой — таким, как тебе предназначено от рожденья. Сколько же для этого надо человеку! И распрямится, поднимется на полный рост, обретет себя далеко не каждый из мальчишек военных лет, ибо только желания твоего тут мало… Ну, а какой будет судьба е е с ы н а? Что для него может сделать она, мать? А если ее не станет, кто защитит его от невзгод, поддержит, укрепит в добрых порывах, поможет надежно встать на ноги, найти жизненное призвание, свое место среди людей?.. Так, наверное, размышляла тогда мать. Но это Юрка постиг потом. Позже он понял многие невысказанные тревоги матери, понял, почему она так часто думала о нем, о его судьбе, — особенно тогда, в сердюковском доме.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».

В сборник известного советского писателя Юрия Нагибина вошли новые повести о музыкантах: «Князь Юрка Голицын» — о знаменитом капельмейстере прошлого века, создателе лучшего в России народного хора, пропагандисте русской песни, познакомившем Европу и Америку с нашим национальным хоровым пением, и «Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана» — о прославленном короле оперетты, привившем традиционному жанру новые ритмы и созвучия, идущие от венгерско-цыганского мелоса — чардаша.
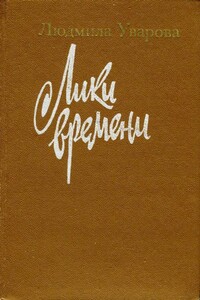
В новую книгу Людмилы Уваровой вошли повести «Звездный час», «Притча о правде», «Сегодня, завтра и вчера», «Мисс Уланский переулок», «Поздняя встреча». Произведения Л. Уваровой населены людьми нелегкой судьбы, прошедшими сложный жизненный путь. Они показаны такими, каковы в жизни, со своими слабостями и достоинствами, каждый со своим характером.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.