Поэты эпохи Возрождения - [22]
III
Паркеру

Второй том «Очерков по истории английской поэзии» посвящен, главным образом, английским поэтам романтической и викторианской эпох, то есть XIX века. Знаменитые имена соседствуют со сравнительно малоизвестными. Так рядом со статьями о Вордсворте и Китсе помещена обширная статья о Джоне Клэре, одаренном поэте-крестьянине, закончившем свою трагическую жизнь в приюте для умалишенных. Рядом со статьями о Теннисоне, Браунинге и Хопкинсе – очерк о Клубе рифмачей, декадентском кружке лондонских поэтов 1890-х годов, объединявшем У.Б.

Рубрика «Статьи, эссе». В статье «Нескучная поэзия» поэт, переводчик и литературовед Григорий Кружков рассказывает о выпущенной актером и драматургом Аланом Беннетом антологии «Шесть поэтов: от Гарди до Ларкина». Принцип отбора прост: в книгу вошли стихи поэтов, с первого прочтения понятных и полюбившихся составителю антологии. А заодно, по мнению Г. Кружкова, А. Беннет непроизвольно дает представление и о мейнстриме английской поэзии, чьими отличительными чертами были и остаются «аскетизм, внимание к обычной, повседневной жизни, меланхолическая сдержанность, сентиментальность…» А чтобы неискушенный читатель не заскучал над стихами и только стихами, книга содержит разного рода биографические сведения, анекдоты и слухи касательно поэтов, вошедших в антологию.
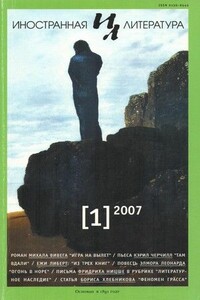
«Живой памяти Вильгельма Вениаминовича Левика, великого мастера русского стиха, знатока мировой поэзии, влюбленного в красоту мира художника и в то же время — добродушного, обходительного и смешливого человека — я посвящаю эти слишком разрозненные, неумелые страницы.».

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Мария Михайловна Левис (1890–1991), родившаяся в интеллигентной еврейской семье в Петербурге, получившая историческое образование на Бестужевских курсах, — свидетельница и участница многих потрясений и событий XX века: от Первой русской революции 1905 года до репрессий 1930-х годов и блокады Ленинграда. Однако «необычайная эпоха», как назвала ее сама Мария Михайловна, — не только войны и, пожалуй, не столько они, сколько мир, а с ним путешествия, дружбы, встречи с теми, чьи имена сегодня хорошо известны (Г.

Один из величайших ученых XX века Николай Вавилов мечтал покончить с голодом в мире, но в 1943 г. сам умер от голода в саратовской тюрьме. Пионер отечественной генетики, неутомимый и неунывающий охотник за растениями, стал жертвой идеологизации сталинской науки. Не пасовавший ни перед научными трудностями, ни перед сложнейшими экспедициями в самые дикие уголки Земли, Николай Вавилов не смог ничего противопоставить напору циничного демагога- конъюнктурщика Трофима Лысенко. Чистка генетиков отбросила отечественную науку на целое поколение назад и нанесла стране огромный вред. Воссоздавая историю того, как величайшая гуманитарная миссия привела Николая Вавилова к голодной смерти, Питер Прингл опирался на недавно открытые архивные документы, личную и официальную переписку, яркие отчеты об экспедициях, ранее не публиковавшиеся семейные письма и дневники, а также воспоминания очевидцев.

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.
