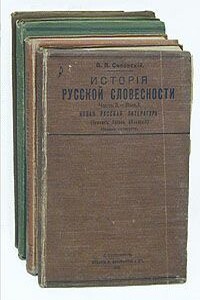Поэтика и семиотика русской литературы - [73]
Я не имею намерения в данной статье опровергать сложившиеся представления и хочу лишь отметить ряд моментов, обнаруживающих себя на уровне художественного языка поэта и вносящих некоторые уточнения в решение проблемы, связанной с соотношением духа и плоти в лирике Тютчева.
В русской литературе известен феномен Батюшкова, породивший череду суждений и его современников, и, позднее, исследователей его творчества о диссонансе между личностью поэта и его лирикой. Так, к примеру, М. А. Дмитриев, отмечая скромность Батюшкова, его расчетливость, умение говорить умно и точно, далее не без доли удивления пишет:
По его скромной наружности никак нельзя было подозревать в нем сладострастного поэта <…> По рассказам о Богдановиче он напоминал мне его своим осторожным обращением, осторожным разговором и наблюдением приличий. Странно, что и Богданович в своей Душеньке тоже не отличался тою скромностию, которую показывал в своей наружности[236].
Известен и феномен Бенедиктова, внешность, поведение и жизнь которого находятся в очевидном противоречии с рядом его лирических сюжетов и образов, отмеченных печатью эротики.
Подобные проявления, казалось бы, можно легко объяснить тенденциями, сложившимися в русской литературе, где эротические мотивы были широко распространены в «легкой» поэзии конца XVIII – начала XIX века. В этот период практически каждый поэт в том или ином варианте коснулся эротической тематики. Однако следует отметить, что с точки зрения формы выражения поэтическая эротика в большинстве случаев базировалась на неких весьма условных деталях и образах, переходящих из текста в текст, обретающих функции знака, нечто за собой скрывающего. Эта поэтика намека, эта смысловая многослойность знака позволяли художникам слова не столько избегать тактильных образов, сколько просто не обращаться или редко обращаться к ним. В целом передача тактильных ощущений, прорисовка осязаемого не очень характерны для русской поэзии начала позапрошлого века, в которой, по точному замечанию Ю. Н. Тынянова, «“развитие поэтического языка”, казалось, идет по ровному пути и оставалось только его усовершенствовать»[237]. Особняком в этом отношении стоит Тютчев, порой перекликающийся с поэтом совсем иного масштаба и дарования – с Бенедиктовым. Эти два имени соседствуют не случайно. Как пишет далее Ю. Н. Тынянов в той же статье «Пушкин и Тютчев», «поэзия в 30-х годах мимо его (Пушкина. – Н. М.) ушла не вперед и не назад, а вкось: к сложным образованиям Лермонтова, Тютчева, Бенедиктова»[238].
Из переписки Тютчева и И. С. Гагарина известно, что кн. Гагарин, уехавший из Мюнхена в Россию осенью 1835 года, в конце того же или в начале следующего года послал поэту сборник стихотворений Бенедиктова, вышедший в 1835 году. В марте 1836 года кн. Гагарин пишет Тютчеву: «Мне было приятно узнать от вашей жены, что вы с удовольствием прочли стихотворения Бенедиктова. Не правда ли, какой искренний, какой глубокий талант? Когда я в первый раз сообщал вам о нем, я писал из Москвы под влиянием первого впечатления – восторга и удивления, которое вызвало это издание в московском кружке»[239]. Реакция Тютчева на прочитанные им стихи Бенедиктова была более сдержанной, чем у кн. Гагарина, однако одобрительной. Он пишет князю 21 апреля / 3 мая 1836 года:
Очень благодарен за присланную вами книгу стихотворений. В них есть вдохновение и, что служит хорошим предзнаменованием для будущего, наряду с сильно выраженным идеалистическим началом есть наклонность к положительному, осязаемому, даже к чувственному. Беды в этом нет… Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле[240].
Выделяя у Бенедиктова положительное, осязаемое, даже чувственное, Тютчев, как может показаться, хвалит начинающего поэта за то, чего недостает ему самому. Между тем, в иной, чем у Бенедиктова, форме это начало достаточно широко представлено в собственной тютчевской лирике.
К. В. Пигарев в примечаниях к стихотворениям Тютчева указывает на прямую перекличку Тютчева и Бенедиктова, проявившуюся в стихотворении «Вчера в мечтах обвороженных…», написанном в 1836 году, когда Тютчев ознакомился с произведениями нового для себя поэта[241]. Действительно, сюжетный ряд тютчевского стихотворения очень близок к сюжету третьей части стихотворения Бенедиктова «Три вида». Здесь тот же образ спящей девы дан в той же своеобразной временной динамике, в движении от ночной полноты к рассвету и пробуждению. Но стихотворение Тютчева несколько шире третьей составляющей поэтической триады Бенедиктова. Тютчев синтезирует вторую и третью часть ее, опуская первую, наиболее эротизированную, и тем самым как бы указывая на границы возможного для него самого. При этом вторую часть «Трех видов» Тютчев свертывает до одной строфы, до размеров первого четверостишия своего произведения. Он снимает всю конкретику стихотворения Бенедиктова, сохраняя лишь два ключевых образных знака, служащих вполне ясной отсылкой к источнику, – «в мечтах обвороженных», описание коих развернуто у Бенедиктова, и «На веждах, томно озаренных». В последнем случае Тютчев, сохраняя указание на характер переживания, замещает наглядно прорисованную Бенедиктовым телесность частично нейтрализующим ее соединением в приведенной поэтической формуле двух бенедиктовских образов – очей (
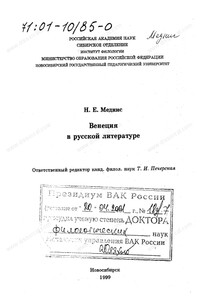
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются пять рассказов И. А. Бунина 1923 года, написанных в Приморских Альпах. Образуя подобие лирического цикла, они определяют поэтику Бунина 1920-х годов и исследуются на фоне его дореволюционного и позднего творчества (вплоть до «Темных аллей»). Предложенные в книге аналитические описания позволяют внести новые аспекты в понимание лиризма, в особенности там, где идет речь о пространстве-времени текста, о лиминальности, о соотношении в художественном тексте «я» и «не-я», о явном и скрытом биографизме. Приложение содержит философско-теоретические обобщения, касающиеся понимания истории, лирического сюжета и времени в русской культуре 1920-х годов. Книга предназначена для специалистов в области истории русской литературы и теории литературы, студентов гуманитарных специальностей, всех, интересующихся лирической прозой и поэзией XX века.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.