Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана - [56]
39
Конечно, антисемитизм существовал и до войны. Он вспыхивал в ссорах на коммунальной кухне, или какой-нибудь пьяница мог высказаться на улице, — антисемитизм жил, сохранялся подспудно, но официально, повторяю, он карался законом как пережиток, несовместимый с ленинизмом. Он пышным цветом цвел именно на задворках. Сима мальчиком однажды попал на такой задний двор. Обычно они с приятелями туда ходить не решались, потому что там заправляла банда старших ребят, которые нигде не учились, не работали, у всех были клички — Горбатый, Змей, Волк. И вот как-то раз туда закатился мяч, и Сима решился пересечь границу. Эти ребята тут же его окружили и спустили с него штаны, чтобы посмотреть, обрезан ли он. Поэтому с двенадцати лет он начал заниматься боксом. И через несколько месяцев пошел на задний двор, чтобы набить морду Горбатому.
Само собой, к концу сороковых годов, после триумфального разоблачения космополитов, я уже сознавала, что все это касается и меня. Но скорее интеллектуально, чем эмоционально.
Я себя до начала репрессий абсолютно не чувствовала еврейкой. Сима всегда говорил, что в нем есть «а пинтеле ид» — это на идише капелька, изюминка еврейская. Вероятно, он когда-то что-то видел, в каких-то других семьях. Его семья не была религиозна.
Во всяком случае, про Симу я могу в этом смысле сказать одно: он, когда мы собирались, так пел еврейские песни — не зная ни одного слова на идише, но имитируя звуки, — что старики евреи, в том числе отец Дезика Самойлова Самуил Абрамович, рыдали. И Самуил Абрамович все говорил: это, вероятно, какого-то местечка особый акцент, я что-то слов не узнаю, не понимаю. Он думал, что это какой-то местный говор еврейский. На самом деле — чистая имитация звучания. Но Сима пел так, что они все плакали. Значит, в нем жило это чувство еврейства, поэзия еврейства.
Я стопроцентно была этому чужда. Для меня этого не существовало. Я не понимала, какой я национальности. Я была типичный космополитический продукт. Это и понятно. Жила в Германии, была в Палестине дважды, жила во Франции. Семья в этом смысле была безо всяких традиций. Для меня всего этого не было. Но когда начались преследования… Это ведь железным образом возникает, когда тебя бьют. Когда я увидела, что быть евреем как бы стыдно, я стала говорить, что я еврейка, потому что иначе было унизительно.
Я думаю, что и у большинства ребят в моем поколении не было этого национального чувства, оно было в Советском Союзе приглушено. Вот, скажем, сейчас, когда наши семьи уезжают в Америку и наши дети попадают туда, там надо принять какое-то вероисповедание, потому что все что-то исповедуют и тебе надо прибиться к какому-то очагу. Здесь ничего этого не было. Не существовало. Место религии занимала великая коммунистическая идея, все остальное было под спудом, придавлено, забито наглухо. Хотя в чьих-то сердцах действительно жило. Но мое еврейство четко датировано этим моментом. На своем личном опыте я бы сделала вывод, что еврей ощущает свое еврейство, когда его преследуют и бьют. Но говорят, что та порода евреев, которая растет сейчас в Израиле, совсем другая. Мы с Симой были в Израиле — они и выглядят совершенно иначе, они совсем не похожи на местечковых евреев. Они все красивые, высокие, сильные, плечистые. Это уже другой народ, с чувством гордости, достоинства. Они себя ощущают евреями независимо от обстоятельств. А здесь, по-моему, было так. Как-то повода никакого, возможности, что ли, не было. Вот Каплер, человек старше меня на 20 лет, мне рассказывал, что когда он в первый раз попал во Францию, там в некоторых гостиницах надо заполнить анкету (в очень хороших не надо, а в тех, что подешевле, надо) — откуда ты, кто ты и что. И он написал в графе «национальность» — еврей. А портье его спрашивает: месье из Израиля? То есть еврей — это гражданство, а не вероисповедание. Никто вас не спрашивает ваше вероисповедание. Для них национальность — это страна.
Между тем перед детьми из еврейских семей вставало все больше трудностей на пути к высшему образованию. Это не было нигде написано, не было сформулировано официально, но все это знали. Мой знакомый, молодой преподаватель с мехмата МГУ, работал в приемной комиссии. Его вызвал декан и дал указание — разумеется, с глазу на глаз — ставить плохие отметки всем евреям, независимо от уровня знаний. Он отказался подчиниться. Но тысячи других соглашались без возражений.
На даче у моего дяди академика Фрумкина мы почти каждое воскресенье встречались с Николаем Семеновым, лауреатом Нобелевской премии по химии. И вот как-то мы там гуляли все вместе, и я рассказала ему эту историю и выразила свое возмущение. Каково же было мое удивление, когда этот человек — умный, образованный, очаровательный, я очень его любила — сказал: «Лилечка, это очень грустно, но они правы, эти препятствия оправданы. Еврейский ум способен слишком легко усваивать все, что угодно, и на экзамене русский никогда не сможет соперничать с евреем. Но зато еврей значительно уступает русскому в творческой силе. Если не защитить русских, в науке будут господствовать евреи, что в конце концов только ее обеднит».
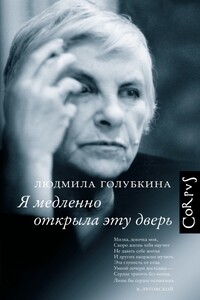
Людмила Владимировна Голубкина (1933–2018) – важная фигура в отечественном кино шестидесятых-восьмидесятых годов, киноредактор, принимавшая участие в работе над многими фильмами, снятыми на «Мосфильме» и киностудии имени Горького, а позже – первый в новые времена директор Высших сценарных и режиссерских курсов, педагог, воспитавшая множество работающих сегодня кинематографистов. В книге воспоминаний она рассказывает о жизни в предвоенной Москве, о родителях (ее отец – поэт В. Луговской) и предках, о годах, проведенных в Средней Азии, о расцвете кинематографа в период «оттепели», о поражениях и победах времен застоя, о друзьях и коллегах – знаменитых деятелях кино и литературы, о трудной и деликатной работе редактора.
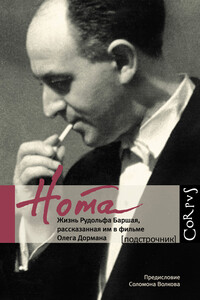
Дирижер Рудольф Баршай принадлежал к плеяде великих музыкантов ХХ века. Созданный им в конце пятидесятых Московский камерный оркестр покорил публику во всем мире. Постоянными партнерами оркестра были Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс. На пике карьеры в 1977 году Баршай уехал на Запад, чтобы играть сочинения, которые были запрещены в СССР. Он руководил оркестрами в Израиле и Великобритании, Канаде и Франции, Швейцарии и Японии. На склоне лет, в Швейцарии, перед камерой кинорежиссера Олега Дормана Баршай вспоминает о своем скитальческом детстве, о юности в годы войны, о любви и потерях, о своих легендарных учителях, друзьях, коллегах — Д. Шостаковиче, И. Менухине, М. Ростроповиче, И. Стравинском, — о трудностях эмиграции и счастливых десятилетиях свободного творчества.Книга создана по документальному фильму «Нота», снятому в 2010 году Олегом Дорманом, автором «Подстрочника», и представляет собой исповедальный монолог маэстро за месяц до его кончины.
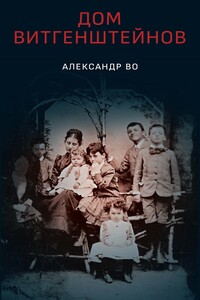
«Дом Витгенштейнов» — это сага, посвященная судьбе блистательного и трагичного венского рода, из которого вышли и знаменитый философ, и величайший в мире однорукий пианист. Это было одно из самых богатых, талантливых и эксцентричных семейств в истории Европы. Фанатичная любовь к музыке объединяла Витгенштейнов, но деньги, безумие и перипетии двух мировых войн сеяли рознь. Из восьмерых детей трое покончили с собой; Пауль потерял руку на войне, однако упорно следовал своему призванию музыканта; а Людвиг, странноватый младший сын, сейчас известен как один из величайших философов ХХ столетия.

Эта книга — типичный пример биографической прозы, и в ней нет ничего выдуманного. Это исповедь бывшего заключенного, 20 лет проведшего в самых жестоких украинских исправительных колониях, испытавшего самые страшные пытки. Но автор не сломался, он остался человечным и благородным, со своими понятиями о чести, достоинстве и справедливости. И книгу он написал прежде всего для того, чтобы рассказать, каким издевательствам подвергаются заключенные, прекратить пытки и привлечь виновных к ответственности.

Кшиштоф Занусси (род. в 1939 г.) — выдающийся польский режиссер, сценарист и писатель, лауреат многих кинофестивалей, обладатель многочисленных призов, среди которых — премия им. Параджанова «За вклад в мировой кинематограф» Ереванского международного кинофестиваля (2005). В издательстве «Фолио» увидели свет книги К. Занусси «Час помирати» (2013), «Стратегії життя, або Як з’їсти тістечко і далі його мати» (2015), «Страта двійника» (2016). «Императив. Беседы в Лясках» — это не только воспоминания выдающегося режиссера о жизни и творчестве, о людях, с которыми он встречался, о важнейших событиях, свидетелем которых он был.

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Это была сенсационная находка: в конце Второй мировой войны американский военный юрист Бенджамин Ференц обнаружил тщательно заархивированные подробные отчеты об убийствах, совершавшихся специальными командами – айнзацгруппами СС. Обнаруживший документы Бен Ференц стал главным обвинителем в судебном процессе в Нюрнберге, рассмотревшем самые массовые убийства в истории человечества. Представшим перед судом старшим офицерам СС были предъявлены обвинения в систематическом уничтожении более 1 млн человек, главным образом на оккупированной нацистами территории СССР.

Монография посвящена жизни берлинских семей среднего класса в 1933–1945 годы. Насколько семейная жизнь как «последняя крепость» испытала влияние национал-социализма, как нацистский режим стремился унифицировать и консолидировать общество, вторгнуться в самые приватные сферы человеческой жизни, почему современники считали свою жизнь «обычной», — на все эти вопросы автор дает ответы, основываясь прежде всего на первоисточниках: материалах берлинских архивов, воспоминаниях и интервью со старыми берлинцами.