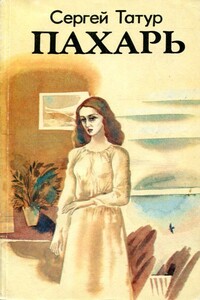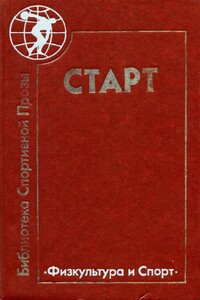Некоторые охотники утверждали вполусерьез-вполусмех, что Хохлатка предсказывала Анатолию Ивановичу время прилета матерых, чернышей, шилохвосток, а также помогала выбрать место. Если Хохлатка начинала купаться, нырять, считай, что ни подсадки, ни пролета не будет; если она тихо и чинно сидела на воде, — место выбрано правильно. Эти побасенки помогали мириться с редкой охотничьей удачливостью Анатолия Ивановича. Многие объясняли чуткость и другие необыкновенные свойства Хохлатки тем, что она «живленая» утка. Несколько лет назад один из клиентов Анатолия Ивановича всадил в нее заряд шестого номера. Анатолий Иванович две недели проносил за пазухой еле живую утку, скармливая ей разваренное в молоке пшено, и добился того, что Хохлатка ожила. Но с тех пор он никогда не брал ее на свои егерские выезды.
— Скажи, Анатолий Иванович, — с улыбкой, но холодно проговорил Андреев, — кто из нас егерь: ты или я? Может, это ты мне деньги платишь?
Анатолий Иванович ничего не ответил, только коротко кивнул головой. Он, видимо, надеялся, что разговор останется в плане чисто дружеских уговоров, но Андреев затронул его профессиональную щепетильность, и ему не оставалось ничего другого, как повиноваться.
— Уть!.. Уть!.. Уть!.. — послышался со двора голос Анатолия Ивановича и вслед за тем шелест и треск крыльев кинувшихся врассыпную уток. Они уже знали обманчивую ласковость этого призыва, означавшего, что некоторым из них пора на работу. А уткам, видимо, совсем не улыбалось часами покачиваться на воде с привязанным к лапке грузилом, когда над головой гремят выстрелы и по воде хлещет дробь.
Мы вышли, чтобы помочь Анатолию Ивановичу, но это оказалось лишним. Одна из уток не бросилась наутек, осталась стоять там, где застал ее призыв Анатолия Ивановича, кокетливо склонив головку, посверкивая золотистым ободком глаза. Над основанием клюва смешно завивался хохолок. Не в пример товаркам Хохлатка любила свою работу. Анатолий Иванович нагнулся, поднял утку, чуть затрепыхавшуюся в его ладонях, погладил ее шейку, вынул из-за щеки размоченный в слюне мякиш и скормил его утке, после чего сунул присмиревшую Хохлатку в плетеную корзину. Вскоре Василий принес вторую подсадную, и мы тронулись в путь.
То чувство, которое я испытал, перешагнув порог дома Анатолия Ивановича, чувство радости узнавания, сродства месту, владело мною на всем пути от дома до озера. Радостно узнавал я приметы дороги: гнутую, похожую на вопросительный знак березу у околицы, семейку черных пушистых елок, сторожевой форпост густого, влажно, остро и душно пахнущего леса с крутыми мшистыми тропками, все петли которых, по счету шестьдесят семь, были мне ведомы. Сколько раз, валясь от усталости, пересчитывал я эти петли в смутной надежде, что вдруг их окажется меньше! Хорошо помнилось мне и зеленое окно, распахнутое на болото — здесь Анатолий Иванович надевал на свои костыли плоские дощечки для упора, — и черные вздутия торфа среди едкой осочной зелени, и чавкающий шаг, и объеденный мошкой орешник с дырявыми, в липкой паутине листьями, за которыми начиналось второе болото, подводящее к озеру, и неизменная чайка, кружащая над причалом. И безжалостно разворошенный охотниками для всяких нужд стог сена стоит на том же месте, и, как в прежние годы, в него воткнут шест с привязанным за лапу дохлым, расперившимся ястребом. Конечно, это другой стог, другой ястреб, другая чайка, но кажется, они все те же, подобно берегам, лесу, болоту.
Первый охотничий вечер не принес мне удачи. Уток было видимо-невидимо, но высоко в небе. Они проносились во всех направлениях, поодиночке, стайками и стаями. Крупные кряквы и маленькие чирки, шилохвостки с приметной закорючкой хвостика и свиязи. Но все они были далеко за пределами выстрела. Наверное, их распугали на утренней зорьке.
До боли в глазах глядел я из своего шалаша на темную, холодную, рябистую воду, на которой мерно покачивалась моя подсадная и подпрыгивали чучела. Подсадная казалась искусственной — такая она была неподвижная и покорная мелкой волне; чучела же вели себя как живые. Они ворочались, показывая то бок с синим пятнышком крыла, то длинный, унылый клюв, то задок с торчком хвостика; ныряли, будто в поисках корма, или вдруг все враз выстраивались стайкой и плыли против волны. Но не было ни одной подсадки. Небо на западе стало ярко- и жестко-красным, а все вокруг, кроме подрумяненной закатом воды, аспидно-черным: и камыши, и осока, и дальние островки. Откуда-то издали доносился будоражащий отзвук выстрелов, но поблизости было тихо, и это примиряло с неудачей.
Закат погас, и над водой легла ночь. Но небо по-прежнему светлело, и я с надеждой поглядывал из шалашика уж не на воду, а на небо: не появится ли черное, как хлопок сажи, тело утки, летящей на вечерний жор.
Но вот из-за тростника бесшумно выплыл челнок Анатолия Ивановича, и я понял, что на сегодня охота кончилась.
Эта вечерняя зорька выдалась не по-августовски холодной, и, когда Анатолий Иванович взял направление на камыши, Андреев спросил обеспокоенно:
— Мы где заночуем?
— Как где? — удивился егерь. — В челноках.