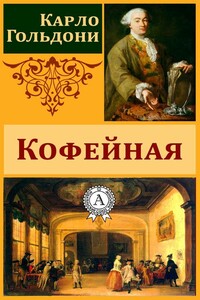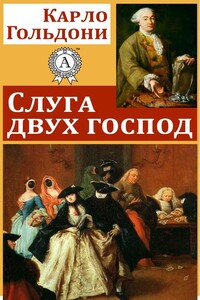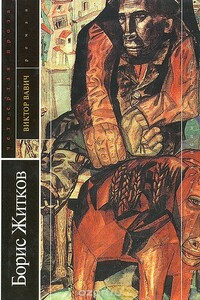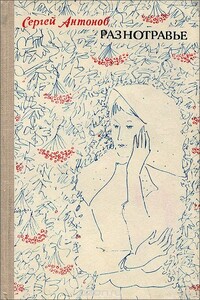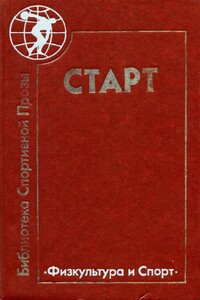— Больше не принимаем, — сказал начальник охотхозяйства.
Он стоял на ступеньках недостроенного смолистого крыльца, его бледно-голубой взгляд поверх головы собеседника уходил куда-то вдаль. «Будто полководец!» — подумал Анатолий Иванович, снизу вверх рассматривая небольшую, коренастую фигуру начальника в темном ватном костюме, туго перехваченную широким офицерским ремнем.
— Тогда берите задаром, — сказал Анатолий Иванович и тверже уперся руками в перекладины костылей.
Утки завозились в плетушке, висящей у него через плечо, он похлопал по крышке ладонью, и утки успокоились. Бледно-голубой взгляд медленно перекинулся на охотника.
— Задаром? — повторил начальник. — В егеря метишь?
Анатолий Иванович покраснел. Он не сомневался, что его, лучшего подсвятьинского охотника и бывшего общественного егеря, пригласят работать во вновь созданном охотхозяйстве, и утки тут были ни при чем. Когда озеро Великое объявили заповедником, он очень обрадовался. Несмотря на все усилия подсвятьинцев, браконьерство не удалось изжить до конца: и по весне, и ранней осенью до открытия охоты погромыхивали на Великом незаконные выстрелы заезжих охотников. Да и прудковские мужики озоровали. Конечно, это не было похоже на разбой послевоенных лет, и все же озеро год от года скудело водоплавающей дичью. И вот наконец Москва вспомнила о Великом и приняла его под свою высокую руку.
На крутом берегу Дуняшкиной заводи стали валить сосны, расчищая место для стройки охотничьего домика, конторы и служб охотхозяйства, по деревням объявили, что принимаются по высокой цене дворовые утки и гуси. Этих птиц должны были выпустить на озеро. Они происходят от диких отцов, сухи и подбористы, им легко скинуть лишний жирок и овладеть полетом. Уверенный, что его позовут работать егерем в охотхозяйстве, Анатолий Иванович торопился закончить домашние дела — перестлать тесовую крышу избы, сколотить закуток для боровка — и, как сейчас выяснилось, опоздал со своими утками. Он, конечно, хотел получить за них деньги, но раз нет, так нет, не тащить же их обратно… Но Буренков иначе истолковал его намерения. И все же не столько подозрение в корыстном расчете смутило Анатолия Ивановича, сколько то, что Буренков, похоже, вовсе не собирался приглашать его на работу. Оттого и покраснел всем бледноватым, веснушчатым лицом, шеей, треугольником груди в распахнутом вороте гимнастерки.
А начальник охотхозяйства лишний раз убедился в своей проницательности. Человек бесталанный, бесстрастный, но жадно преданный вещественным благам жизни, он всегда подозревал в людях корысть и видел в этом свою силу. Все прочие человеческие побуждения он считал маскировкой, обманом, лицемерием. К тому же охотник, стоящий сейчас перед ним, был ему безотчетно неприятен. Если бы он сделал над собой усилие и перевел в слова смутный образ своей неприязни, то получилось бы примерно следующее: я слышал о тебе как о самом умелом охотнике и лучшем здешнем егере, мне уже это не нравится, не люблю лучших. Ты потерял на войне ногу, это большое несчастье, оно резко ограничивает возможности человека, но ты с этим не посчитался и даже переплюнул тех, у кого две ноги, значит, ты из этих… беспокойных, которым всегда надо выше головы прыгнуть. Не люблю… А может, молва тебя из жалости так разукрасила? К убогим и калечным люди всегда снисходительны. Эта последняя, защитная мысль навсегда стала рабочей предпосылкой Буренкова в отношении Анатолия Ивановича.
— По плотницкому делу можешь? — спросил он.
— Все подсвятьинцы плотники, — отозвался Анатолий Иванович.
— Я тебя спрашиваю, — сказал Буренков, глядя на сильные руки охотника, сжимающие перекладины костылей.
— Ну, могу! — Анатолий Иванович убрал руки с перекладин и теперь опирался на костыли под мышками.
— А ты не нукай! Ты в армии командиру тоже нукал?
— Могу, товарищ начальник! — по-дурацки гаркнул Анатолий Иванович, его верхняя губа коротко, насмешливо дернулась.
Буренков слышал слова, а не интонацию.
— Ступай к Васильеву, пусть зачислят в строительную бригаду. Скажи, я велел.
— А как же с утками?
Буренков не ответил, он повернулся и, заложив руку за борт ватника, пошел по ступенькам крыльца в пустой сруб дома, в никуда…
Этот разговор произошел в апреле, а в середине августа, к началу летне-осенней охоты, все основные работы были закончены. На крутом берегу, над Дуняшкиной заводью стал целый охотничий поселок: дом для приезжих с двумя застекленными террасами и кухней, контора, общежитие для егерей и служащих базы, инвентарный сарай, нарядная дачка Буренкова и целый куст уборных, похожих на скворечники. Деревянная лестница сбегала по круче к лодочной пристани, где грудились десятка полтора моторных и весельных лодок. На озере, в островках ситы были сооружены шалашики из березовых ветвей, уложены круглые настилы со скамеечкой; все озеро размечено вешками, тонкими стволами берез; они указывали лодкам свободные от водорослей проходы; вешки отмечали границы запретной для охоты зоны — заказника.
Буренков наглупил совсем немного. Он отказался от местных долбленых челноков и выписал килевые однопарные лодки. Эти лодки были нарядны и вместительны, но неудобны по местным условиям: они цепляли илистое дно, а весла путались в рясе. И в егеря он набрал, за редким исключением, всякий сброд: бездельников, погнавшихся за легким хлебом. Охота не была для них душевным делом, их привлекали чаевые и возможность день-деньской стучать шарами на бильярде, установленном на террасе.