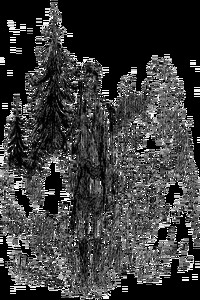Под радугой - [41]
Он открыл глаза. Было темно. Куда девалось пламя? Почему рядом никого нет? Он несколько раз подряд закрывал и открывал глаза. Крохотный язычок пламени, казалось где-то очень далеко, трепетал в густой тьме; это горела на столе у окна лампа с привернутым фитилем. Он хотел вытащить из-под себя правую руку, но она затекла, и малейшее движение причиняло боль.
Как будто кто-то нагнулся над ним — это та женщина в белом. Она испугана.
Чего это он так кричал? — спрашивает она. Что-нибудь болит?
— Ничего.
— Что-нибудь приснилось? — продолжает она допытываться.
«Какое ей дело?» — думает он.
— Нет.
Разве, спрашивает она, ей показалось, что он во сне кричал? Рохл — это его жена?
— Да.
— Где она?
Она умерла, когда он еще первый год сидел в тюрьме.
И долго он сидел?
— Четыре года.
— За что?
— За попытку перейти границу.
— Дети есть?
Был ребенок. Девочка. Он ее тоже только что видел во сне…
Женщина вдруг спохватилась, что заговорила с больным. Ему еще нужен покой. Она велела ему спать и тихонько, на цыпочках, вышла из палаты.
Но спать в эту ночь он уже не мог: он думал о Рохл.
В первый же год в тюрьме он узнал от других заключенных, что в другом отделении умерла его тихая, разумно-сдержанная Рохл. Она была на пять лет моложе его и сидела за то же, что и он. Она не выдержала и года и умерла от паралича сердца.
Их трехлетняя дочь умерла еще раньше, — тогда-то они и решили перейти границу Советской России, попасть в страну их давнишних мечтаний.
И вот — непостижимо, нежданно пришла свобода.
За те несколько часов, — с той минуты, как он выбежал из тюрьмы и до того, как попал в больницу, шатаясь в лихорадочном жару по бурлящему радостью городу, — он не мог разобраться, что происходит. Но уже тогда ему стало ясно: границы, той самой, из-за которой погибла Рохл, больше не существует.
А если так, размышлял он лежа в пустой комнате с открытыми глазами, значит, и его родное местечко, в тридцати верстах отсюда, которое много лет назад поделили пограничными столбами по опушке березовой рощи, — тоже свободно, и он может пойти туда…
Он быстро поднялся и сел на койке. Не оттуда ли пришла к нему Рохл в огненном сиянии? Не туда ли она его звала? Двадцать лет они рвались туда, домой, и не могли вырваться… Теперь его отделяют от дома только тридцать верст, тридцать верст и больше ничего!
Он уже не мог лежать. Одна-единственная мысль не давала ему покоя: уже сегодня он может быть там…
Ощущение слабости сразу исчезло. Он насторожился, долго и чутко прислушивался, затаив дыхание, и медленно, точно в ледяную воду, спустил с койки сначала одну, потом, через минуту, другую ногу. Прижимая рукой отчаянно стучавшее сердце, он так же медленно выпрямился, накинул халат.
Он постоял, взвешивая, стоит ли отодвигать от окна стол с лампой, и вдруг вспомнил: когда его вели в ванну, он проходил узким боковым коридором. Там есть окно. Прислушался. Тихо. Санитарка, верно, где-нибудь прикорнула. Нельзя терять ни секунды. Белая дверь в коридор полуоткрыта. Он бесшумно проскользнул в коридор.
Еще несколько минут, показавшихся вечностью, и он уже со всех ног, — откуда только сила взялась! — бежал по темной улице, не чувствуя боли в колене, которое расшиб до крови, когда перебирался через высокий больничный забор. Он хорошо знал город еще с прежних лет, представлял себе, где сейчас находится: в конце этой длинной и кривой темной улицы его ожидал мостик, оттуда можно будет свернуть направо, за разбросанные домишки предместья, к польскому кладбищу, за которым начинается поле…
Вот он перебежал по шаткому мостику через болото, вот уже остались далеко позади старые деревья, которые росли за мостиком. Кругом была странная, какая-то разряженная тишина, без единого шороха, только кровь стучала в висках и желтые круги вертелись перед глазами. Сколько раз за все эти годы его спасала от смерти эта мысль — бежать! Он бежал, и земля жгла ему ноги.
Солнце стояло высоко, когда он наконец очутился в тенистой березовой роще. Он припал к ближайшему дереву, прижал руку к сердцу, тяжело, с присвистом дыша. Осмотрелся, инстинктивно искал глазами полосатые пограничные столбы с орлами.
Их не было.
Где-то здесь — он силился и не мог припомнить, где именно — в ту темную ночь задержали его и Рохл. Земля в рощице была свеже-желтой от осенней травы. Сквозь поредевшие верхушки берез бегали солнечные зайчики. Длинные тени от белых стволов лежали черными крестами, а от земли исходил тонкий аромат — смесь почти улетучившихся запахов прошедшего лета и все более ощутимых запахов близкой зимы.
Он опять стоял на этой земле, и все, что с ним произошло за последние дни, теперь казалось ему особенно четким и ясным. Высокая изогнутая береза, к которой он прислонился, мелко и зябко дрожала всеми своими листочками разных оттенков на солнце и в тени. У него начала кружиться голова. Казалось, что кто-то могучий и властный вдруг стал раскачивать землю. В вышине, в просветах деревьев, небо с изящно разбросанными на нем облачками тоже качалось. И земля и небо, раскачиваясь, издавали какие-то знакомые, позабытые звуки — чуть слышный свист, приглушенное пощелкивание, непрестанное жужжание, стрекот. А по обе стороны от рощи, столько лет разделявшей людей, расположился городок. И Велвл Горенберг был точно трепещущая рука, которую одна часть городка, после долгой разлуки, протягивала другой через эту рощу…

На дальневосточной земле, среди новостроек первых пятилеток, известен и город Биробиджан — центр Еврейской автономной области. Борис Миллер, один из старожилов области, в повести «Ясность» и во многих рассказах показывает людей, с энтузиазмом осваивающих Дальневосточный край. Среди героев повести мы видим и Эммануила Казакевича, жившего в начале тридцатых годов в Биробиджане и здесь начавшего свой путь в большую советскую литературу. Произведения этой книги отличает глубокий социальный оптимизм, любовь к людям, которые трудом своим преображают землю.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.
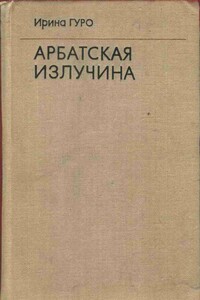
Книга Ирины Гуро посвящена Москве и москвичам. В центре романа — судьба кадрового военного Дробитько, который по болезни вынужден оставить армию, но вновь находит себя в непривычной гражданской жизни, работая в коллективе людей, создающих красоту родного города, украшая его садами и парками. Случай сталкивает Дробитько с Лавровским, человеком, прошедшим сложный жизненный путь. Долгие годы провел он в эмиграции, но под конец жизни обрел родину. Писательница рассказывает о тех непростых обстоятельствах, в которых сложились характеры ее героев.

Повести, вошедшие в новую книгу писателя, посвящены нашей современности. Одна из них остро рассматривает проблемы семьи. Другая рассказывает о профессиональной нечистоплотности врача, терпящего по этой причине нравственный крах. Повесть «Воин» — о том, как нелегко приходится человеку, которому до всего есть дело. Повесть «Порог» — о мужественном уходе из жизни человека, достойно ее прожившего.

Наташа и Алёша познакомились и подружились в пионерском лагере. Дружба бы продолжилась и после лагеря, но вот беда, они второпях забыли обменяться городскими адресами. Начинается новый учебный год, начинаются школьные заботы. Встретятся ли вновь Наташа с Алёшей, перерастёт их дружба во что-то большее?