Почетный гражданин Москвы - [33]
Человек, даже великий, велик не сам по себе, а лишь в окружении других, кого он озаряет светом своих мыслей, кого увлекает за собой силой своего гения и кто, в свою очередь, питает его. Именно это постоянное общение знаменитых современников, утверждение и отстаивание ими передовых идей, их суждения и споры по важнейшим, волновавшим их проблемам современности, морали, творчества и определяли во многом характер и стиль эпохи. Не случайно все эти люди (в числе которых, конечно, и Третьяков, игравший такую видную роль в культурной жизни России) были связаны друг с другом годами тесных и сложных отношений. Они ездили друг к другу по делам, на семейные праздники, просто заходили «на огонек», встречались на торжественных обедах и выставках, заносили свои впечатления в дневники, обменивались книгами, писали друг другу письма. Порой это были и не письма вовсе, а целые трактаты по актуальнейшим вопросам жизни. К счастью, время сохранило многие из них. И теперь мы можем попытаться восстановить хоть частично, хоть в миниатюре, взаимоотношения Третьякова с его знаменитыми современниками. Конечно, нет никакой возможности охватить всех. Ведь по обширности знакомств (одних художников не перечесть) и количеству переписки Третьяков в 80-е, 90-е годы был едва ли не первой фигурой на Москве. Ему и писали-то без конкретного адреса, просто: в Москву, Павлу Михайловичу Третьякову (многим ли так?).
И вот представим себе знаменитых личностей, тех, кого хозяин галереи безгранично уважал и любил (ответно получая те же чувства), тех, чью портретную галерею позаботился он создать для нас с вами, своих потомков, представим их не в отдельных рамах, застывшими, а живыми, идущими по галерее навстречу Павлу Михайловичу и протягивающими ему руки («хорошие люди должны единиться»). Искусствовед Стасов, художник Репин, композитор Чайковский, писатели Тургенев и Толстой. Не будем расширять этот список, он и так слишком объемен, до обидного мало удастся вместить.
Громогласный, огромный старец с длинной белой бородой появляется на Лаврушинском внезапно, шумно, заполняя собой прихожую, заглушая своим трубным голосом все вокруг. Он распахивает свои могучие объятия выходящему к нему хозяину и, звучно троекратно целуясь, заявляет без предисловий:
— В музей! Первым делом в ваш изумительный, истинно русский музей!
Противостоять ему невозможно. Тихий, хрупкий на вид, Павел Михайлович, кажется, сейчас вовсе будет подавлен своим энергичным гостем. Но это только кажется. Удивительная способность Третьякова неслышно, незаметно идти всегда своим путем известна всем. Известна и Стасову. А сейчас что ж возражать? Правда, за окнами жаркий июль, и Владимира Васильевича, вспотевшего, измученного в дороге нещадно палящим солнцем, не грех бы отвести в садовую беседку да угостить холодным квасом. Но Третьяков слишком хорошо знает Стасова, чтобы предлагать ему сначала прохлаждаться в саду, а Стасов слишком хорошо понимает Третьякова, потому и говорит сразу о музее. Только там им обоим хорошо, уютно, интересно. Там, среди картин — своих друзей. О них, об их создателях — самые важные, самые задушевные разговоры. Разговоры о родном искусстве, служение которому объединило их, столь разных, внешне просто несовместимых. Объединило прочно, на долгие-долгие годы.
«Стасов и Третьяков были самыми настоящими передвижниками, более пламенными, убежденными и действенными, быть может, чем признанные отцы передвижничества — Крамской и Перов, — напишет в XX веке о них искусствовед В. Никольский. — Идейный реализм взошел так быстро и победоносно на колесницу триумфатора именно потому, что трубы критика Стасова властно призывали толпу и заглушали голоса протеста, но самую колесницу эту тихо и молчаливо, сберегая всякий рубль, строил в Лаврушинском переулке изумительный собиратель Третьяков. Триумф передвижничества создали они оба».
Они идут по залам музея, Стасов восторженно, Третьяков удовлетворенно глядя на окружающие их произведения, внимательные к тому, как повешено, как смотрится каждое. Уверенность в правоте дела, которому они оба отдали свои привязанности, свою жизнь, воодушевляет и радует их. Но согласное молчание длится недолго. Бросив быстрый взгляд на эскиз Шварца, неистовый критик взрывает тишину:
— Паки и паки жалею, что нет у вас до сих пор картона Шварца «Иван Грозный у тела убитого сына». Это шедевр, с которым ни в какое сравнение не идет тот посредственный эскиз в красках.
— Я старался добыть картон Шварца, но безуспешно. Эскиз же, написанный масляными красками, далеко не посредственный! — тихо и твердо парирует Павел Михайлович.
— А почему нет ни единого хорошего рисунка Репина? Мне кажется, превосходно было бы добыть иные из его чудных портретов черным карандашом. Например, Введенского, Гоголя, — наступает Стасов.
— Вы совершенно правы. О портретах Введенского и Гоголя я уже думал, — серьезно соглашается Третьяков.
Обрадованный единодушием Стасов тут же торопится добавить:
— Как бы чудесно, если бы вы выцарапали поскорее у Репина некоторые из его чудных этюдов, во весь рост, к «Бурлакам».

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

33 рассказа Б. А. Емельянова о замечательном пионерском писателе Аркадии Гайдаре, изданные к 70-летию со дня его рождения. Предисловие лауреата Ленинской премии Сергея Михалкова.

Ежегодно в мае в Болгарии торжественно празднуется День письменности в память создания славянской азбуки образованнейшими людьми своего времени, братьями Кириллом и Мефодием (в Болгарии существует орден Кирилла и Мефодия, которым награждаются выдающиеся деятели литературы и искусства). В далеком IX веке они посвятили всю жизнь созданию и распространению письменности для бесписьменных тогда славянских народов и утверждению славянской культуры как равной среди культур других европейских народов.Книга рассчитана на школьников среднего возраста.

Книга о гражданском подвиге женщин, которые отправились вслед за своими мужьями — декабристами в ссылку. В книгу включены отрывки из мемуаров, статей, писем, воспоминаний о декабристах.
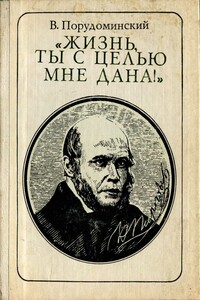
Эта книга о великом русском ученом-медике Н. И. Пирогове. Тысячи новых операций, внедрение наркоза, гипсовой повязки, совершенных медицинских инструментов, составление точнейших атласов, без которых не может обойтись ни один хирург… — Трудно найти новое, первое в медицине, к чему бы так или иначе не был причастен Н. И. Пирогов.