По ту сторону отчаяния - [19]
Человек, прошедший через СПБ и ПБ, никогда не будет прежним. Он не сможет создать семью, иметь детей. Он никогда не будет посещать даже обычные ПБ, носить туда гостинцы и входить в комиссии, курирующие соблюдение прав человека в этих «богоугодных» заведениях: душевнобольные навсегда останутся для него орудием пытки, и он не сможет увидеть в них страдающих людей. Он до конца своих дней будет бледнеть, видя машину с красным крестом, и не будет сближаться с психиатрами. Он никогда не обратится к невропатологу и не примет даже таблетку снотворного. Он не сможет смотреть фильмы типа «Френсис» или «Полета над гнездом кукушки». То, что с ним сделали, непоправимо. Он или возненавидит людей, или не сможет никогда причинять им зло — даже последним подонкам. (Слава Богу, со мной произошло именно последнее. Отсюда, наверное, пункт о всеобщей амнистии в программе ДС.) И держать его будут на коротком поводке. Есть такая штука — психоневрологический диспансер. Политический после СПБ обязан посещать его каждый месяц. Возьмется за прежнее — без суда и следствия попадет в ПБ (достаточно одного звонка из КГБ), а там и в СПБ. «Тот, кто нарушит Закон, возвращается в Дом Страдания». Все по Уэллсу.
Я не ходила в диспансер. Доктор Житловская все поняла и автоматически записывала, годы подряд, меня не видя, в журнал про мое «хорошее состояние», обманывая свое начальство и КГБ. Если 50 процентов психиатров участвовали в пытках, то 50 процентов сочувствующих спасали от 50 процентов первых и ГБ. Без них ни один диссидент, бращенный в комнату 101, не выжил бы. В Империи зла тихой сапой саботировало и подрывало устои Добро. Система не работала безупречно, винтики иногда отказывались выполнять команды даже в карательных структурах. России не дано было стать тысячелетним рейхом, в действительности она слишком противоречива и слишком сложна для идеальной деспотии. Эмоции, первый порыв (самый благородный), милосердие и самоедство, проявляющиеся в перманентном диссидентстве, опрокинут в очередной раз все планы национал-патриотов, все чаяния государственников. Третий Рим интересен тем, что постоянно разрушает сам себя силой рефлексии, без всяких варваров. Но вернемся к моим останкам.
Оказавшись дома, я должна была умереть: пища не усваивалась совершенно, не было желудочной флоры. Но достали югославские ферменты, и я выжила. Еще раз повезло!
«ПУСТЬ МЕРТВЫЕ ХОРОНЯТ СВОИХ МЕРТВЕЦОВ»
Мало того, что из спецтюрьмы выходит зомби, лишь внешняя оболочка бывшего человека, выжженная изнутри беспредельной ненавистью, предельным унижением и непозволительными для мыслящего существа страданиями. Но этот зомби еще и вынужден вести загробное существование. Возвращение в Лоно Церкви спасало от костра, но не избавляло от пожизненного заточения в монастырь на хлеб и воду (вариант, предложенный Жанне д'Арк). По-моему, Советы сильно прогадали, не давая своим жертвам мирно одуматься и отойти, вернее, уползти в сторону. Выживший в СПБ был навечно неблагонадежен, то есть он был «невыездной», нелояльный, подозрительный, состоящий под гласным надзором КГБ. Но он же был и ненормальный, и состоял под гласным надзором психиатров нужного образца, и считался недочеловеком (гитлеровцы были гуманнее: они таких сразу отправляли в газовую камеру). Нормальная работа по специальности, учеба, брак для него исключались. Кто взял бы на работу вчерашнего узника КГБ и СПБ? И если бы не бунт «винтиков»... Воля к смерти после выхода из СПБ настолько превышает волю к жизни, что конец был бы один, и очень быстрый. Мария Никифоровна Ольховская взяла меня воспитателем в детский санаторий, зная про меня все. Не все дорожили устоями СССР, многие радовались возможности хотя бы тайно, под землей, их подрыть. Кротов было гораздо больше, чем Буревестников. Этих кротов не хватало на то, чтобы режим рухнул, но формулу его дряхления и эрозии они обеспечивали. Режим и жить был не в силах, и умереть не мог. Я люблю детей, но не люблю с ними работать: они чувствуют, что здесь можно сесть на голову. Корчаковское воспитание в советских условиях себя не оправдывало. Дневной сон я своему контингенту оплачивала леденцами: логическими доводами я заставить их спать не могла, а насилие я применять не хотела и не умела. Дети были счастливы, родители — тоже, а я обливалась холодным потом, пытаясь удержать свою группу от полного разбегания за Можай и от выцарапывания друг другу глаз. В ИНЯЗе мне выдали академическую справку со всеми моими пятерками (»отл.») и с отметкой, что я была исключена за поведение, недостойное советского студента. С такой справкой нечего было и думать куда-нибудь идти. Но я решила закончить институт — или не жить, потому что доказать, что это понижение статуса проистекает не от моей неспособности, а от политических репрессий, всем советским обывателям я бы не смогла. Тщеславие? Возможно, но, скорее, оскорбленное человеческое достоинство. Та же М.Н.Ольховская дала мне нелегально характеристику. Но где было взять еще две подписи на треугольнике? Какой профорг, какой парторг мне это подписали бы? Кто бы поставил печать? Можно написать отдельный детектив о том, как я ухитрилась, подобно Джеймсу Бонду, поставить обманом печать в нашем головном учреждении, а за профорга и парторга попросту расписалась сама. Документы, следовательно, были подложные. КГБ действовал нерасторопно (они узнали, что я учусь, только когда я была уже на IV курсе), и советская безалаберность обеспечила мне студенческий билет МОПИ — областного педагогического института им. Крупской. Москвичи учились там на вечернем (хотя для конспирации я поступила на заочное), там была отличная лингвистическая школа, библиотека, унаследованная от Высших женских курсов, а заодно там подрабатывали преподаватели из ИНЯЗа. Учиться на вечернем вообще трудно, в полудохлом состоянии — еще сложнее, а при необходимости знать раз в десять больше нормы (я понимала, что рано или поздно все откроется и начнутся попытки убрать за «академическую неуспеваемость») — и вовсе тяжело. Но это был вопрос чести и выживания, без диплома я не смогла бы вернуть себе самоуважение. Когда все встало на свои места, не все преподаватели захотели участвовать в травле «белого зверя», да и при вечерней системе это было сложно. Все должно было решиться на госэкзаменах. Со щитом — иль на щите! Это был мой личный бой, и никто не мог понять, как высока была ставка. И Сахаров, и Юрий Орлов успели получить свои степени до начала конфликта. Они были кем-то. Им было с чего начинать. Я не могла допустить, чтобы меня всю оставшуюся жизнь считали человеком, поссорившимся с системой из-за личной неудачи, а недоучка без диплома, если он не художник и не поэт, никем иным, кроме неудачника и люмпена, считаться не будет. Обычно госэкзамен проходит гладко, спрашивают по 10-15 минут; «заваливать» свою же продукцию никому не выгодно. Но меня по специальности и научному коммунизму допрашивали по часу — полтора, а если еще учесть идеологический спор и здесь, и там, то к краю было близко. Однако мои десятикратные запасы сделали свое дело: единственное, чем комиссия могла утешить КГБ, — это поставить мне «хор.», а не «отл.» и лишить честно заслуженного красного диплома, а на педагогике и этого не вышло, там не участвовали в заговоре и поставили «отл.».

Поэт и царь, художник и власть…Гении и злодеи – тема вечная, которая в разные исторические периоды преломлялась по+разному.Валерия Новодворская предлагает свой, нетривиальный, взгляд на эту проблему.Под ее острым, блистательным пером всем известные факты перестают быть догмой и предстают в совершенно ином свете, а имена, знакомые с детства, начинают звучать совсем не так, как раньше.

В сборник «Прощание славянки» вошли книги «По ту сторону отчаяния», «Над пропастью во лжи», публикации из газеты «Новый взгляд», материалы дела и речи из зала суда, а также диалоги В.Новодворской с К.Боровым о современной России.

За последние годы имя Валерии Новодворской, как это часто бывает с людьми известными и неординарными, обросло самыми невероятными мифами и легендами, домыслами, слухами и просто сплетнями. Тем и ценна автобиографическая книга лидера партии «Демократический союз России», что рассказывает от первого лица о жизни, полной нескончаемой, неуемной борьбы с властями. Аресты, голодовки, новые аресты... И деятельность, и характер Валерии Новодворской проявлены в ее книге без прикрас – она такова, какова есть.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
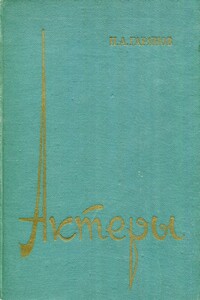
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.
