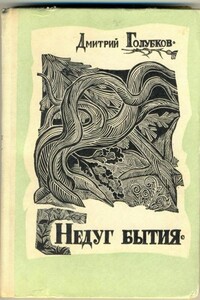Пленный ирокезец - [25]
— Силен-то оказался, а? — с веселым недоуменьем приговаривал курносый солдатик. — Мы-то думали: мозглявый, болезный… А эк он его отделал-то!
Он проснулся от шустрой возни в ногах: что-то бегало, шуршало шинелью, которой он укрылся поверх скудного одеяла, шелестело бумагами, разбросанными на табурете… Он резко двинул ногою — крыса пискнула и спрыгнула с нар, за нею расторопно затопотали другие. Он брезгливо поджал ноги и закрыл глаза, пытаясь забыться снова. Но сон убежал.
Дверь, окованная ржавыми железными полосами, пялилась мутно-желтым глазком, за которым слышались мерные шаги курносого солдатика. Направо, на топчане, поставленном под сводчатым переходом, соединяющим одну камеру с другой, мирно, по-домашнему похрапывал служивый, укравший на Сухаревке сапоги. Мозглой стужей веяло от каменных плит пола: могильным запахом отсырелой глины несло от нетопленной печки. Он провел рукой по стене — и тотчас отдернул пальцы, словно ненароком коснулся склизкой кожи подводного гада. Припадок удушливого кашля сотряс его тело. Он сунул голову под шинель, чтоб не будить других арестантов. Кашель понемногу унялся. Он осторожно выбил искру, раздул трут и зажег оплывший огарок. Потянулся к табурету, на котором в беспорядке валялись четвертки бумаги, исписанные четким убористым почерком.
Стихи посвящались заботливому другу, милому тезке Лозовскому. Один он и навещал приятеля, попавшего в беду. Лукьян был в Питере, Критские томились в монастырских казематах на далеких Соловках, прочие боялись. Третьего дня, правда, нежданным ветром принесло «нравственного» кузена Дмитрия. Кузен блистательно окончил нравственно-политическое отделенье университета и успешно подвизался на музыкальном и литературном поприще. Он избрал себе звучный псевдоним Три-лунный, воспользовавшись родовым гербом Струйских: три серебряных полумесяца на темном щите…
Очутившись в темном, сыром подвале, двоюродный братец несколько растерялся. Жеманно кутаясь в меховой воротник добротной шинели, он с достоинством поклонился и, горделиво выпрямившись, уселся на табурете. Его тонкие, глубоко, как у всех Струйских, вырезанные ноздри нервно подергивались, втягивая зловонный воздух узилища; не выдержав, он закурил длинную ароматную сигару.
Беседа была краткой. Кузен полистал бумаги, переложенные на подоконник, вслух прочел посвящение.
— Кто сей Ло-зов-ский?
— Так. Человек.
— Вероятно, знатный покровитель?
— Он гораздо больше, чем знатный покровитель, — медленно вымолвил арестант, старательно превозмогая закипавшее раздраженье. — Он человек. Друг мой. Мы братья с ним.
— Давно миновались времена Орестов и Пиладов, — зевнув, заметил Дмитрий. И добавил назидательно — Нет подлинной дружбы, как нету и братства истинного.
— Нету и правила без исключений, — возразил узник, неожиданно просияв мрачными глазами, кажущимися огромными на испитом лице. — И под солнцем, озаряющим нашу неизмеримую бездну, в хаосе, где толпятся и пресмыкаются мильоны двуногих творений, называемых человеками, встречаются иногда создания благороднейшие, не заклейменные печатью подлости и ничтожества…
— Тон поистине пророческий, — насмешливо прервал Трилунный.
Полежаев, словно бы не расслышав, продолжал торжественно:
— Провидению угодно было, чтобы я на колючем пути моего поприща встретил благородного и истинного друга. Может быть, только эта встреча и поддерживает в моей душе последние искорки веры и надежды.
— Ты говоришь, словно по Библии читаешь. Уж не представляется ли твоему пышному пиитическому воображению сия зловонная камера королевским эшафотом или Голгофою?
— Представляется, — серьезно отвечал узник. — И смерть мученическая — тоже представляется. Я и стихи об этом надумал:
Я мою смерть, милый Митенька, в каждом уголку души своей чую. Я ее, как эти кандалы, повсюду с собою таскаю.
— Откуда в тебе сие? — с искренним любопытством спросил кузен. — Сколько тебя помню, всегда ты с какой-то болезненною остротою чувствовал это: казнь, секиру, колеса… — Дмитрий улыбнулся уголками тонких губ. — Даже когда в Рузаевку тебя привозили — помнишь?
— Помню, — кивнул Полежаев, глядя на двоюродного подобревшими глазами.
— Какие-то странные игры выдумывал — с ловлей, травлей, пытками и прочей чепухой. Чтобы я тебя к дереву привязывал и терзал понарошке…
— Понарошке, — повторил Полежаев и осторожно тронул руку Дмитрия.
— В какого-то индейца пленного играл…
— В ирокезца… Знаешь, у меня даже стихи о нем сочинялись! Сейчас. — Полежаев потянулся к подоконнику, нашарил измятый листок. — Слушай, коль не скучно:
— Вот-вот. Вечно какая-то жестокость. В крови она у тебя…
— Да, Митька, прав ты: в крови. Вспомни, дед-то у нас какой был! А? Вот откуда в нас это дикое, темное…
— Я в себе дикого ничего не ощущаю, — с обиженным смешком возразил Дмитрий.
— Есть, есть оно и в тебе и обязательно прорвется! Это, проклятое и благословенное, в пытошной и на Парнасе взлелеянное, на крови взросшее… Там, внизу, в подвале: дыба, кнуты, вопль истязуемого мужика…
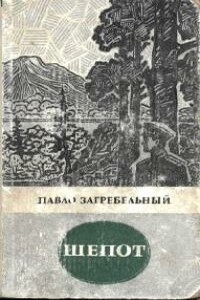
Книга П. А. Загребельного посвящена нашим славным пограничникам, бдительно охраняющим рубежи Советской Отчизны. События в романе развертываются на широком фоне сложной истории Западной Украины. Читатель совершит путешествие и в одну из зарубежных стран, где вынашиваются коварные замыслы против нашей Родины. Главный герой книги-Микола Шепот. Это мужественный офицер-пограничник, жизнь и дела которого - достойный пример для подражания.
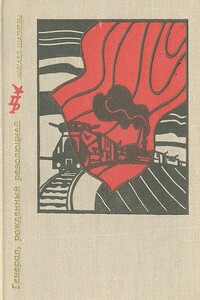
Повесть "Генерал, рожденный революцией" рассказывает читателю об Александре Федоровиче Мясникове (Мясникяне), руководителе минских большевиков в дни Октябрьской революции, способности которого раскрылись с особенной силой и яркостью в обстановке революционной бури.
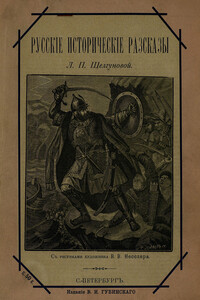
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть приморского литератора Владимира Щербака, написанная на основе реальных событий, посвящена тинейджерам начала XX века. С её героями случается множество приключений - весёлых, грустных, порою трагикомических. Ещё бы: ведь действие повести происходит в экзотическом Приморском крае, к тому же на Русском острове, во время гражданской войны. Мальчишки и девчонки, гимназисты, начитавшиеся сказок и мифов, живут в выдуманном мире, который причудливым образом переплетается с реальным. Неожиданный финал повести напоминает о вещих центуриях Мишеля Нострадамуса.

Одна из повестей («Заложники»), вошедшая в новую книгу литовского прозаика Альгирдаса Поцюса, — историческая. В ней воссоздаются события конца XIV — начала XV веков, когда Западная Литва оказалась во власти ордена крестоносцев. В двух других повестях и рассказах осмысливаются проблемы послевоенной Литвы, сложной, неспокойной, а также литовской деревни 70-х годов.

«Юрий Владимирович Давыдов родился в 1924 году в Москве.Участник Великой Отечественной войны. Узник сталинских лагерей. Автор романов, повестей и очерков на исторические темы. Среди них — „Глухая пора листопада“, „Судьба Усольцева“, „Соломенная сторожка“ и др.Лауреат Государственной премии СССР (1987).» Содержание:Тайная лигаХранитель кожаных портфелейБорис Савинков, он же В. Ропшин, и другие.