Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты - [5]
Из старых русских поэтов Сталин, как все тогдашние публицисты, предпочитает Крылова[30], но цитаты приводит анонимно, будто из вторых рук, и походя перевирая текст: «Недаром говорят: „Беда, коль пироги начнет печь сапожник!..“» (вместо «печи»). Мертвая глухота к элементарному благозвучию плохо вяжется с образом молодого Сталина-поэта, пусть и грузинского, и с позднейшими легендами о чуткости к поэтическому слову. (В юности он действительно был стихотворцем, достаточно бездарным, чтобы войти в хрестоматию.) Что касается странной анонимности («говорят»), то она глубоко симптоматична: Крылова он, без сомнения, читал. Вернее будет сказать, что уже на этой самой ранней стадии его публицистики мы сталкиваемся с постоянной чертой сталинского стиля — инстинктивной конспиративностью, с методом темного намека, намеренной деперсонализацией объекта, предшествующей его прямому называнию. Любил он ссылаться и на другие, столь же обезличенные, крыловские тексты, чаще прочих — на басню «Пустынник и Медведь».
Никакого влечения к Пушкину, о котором иногда вспоминали верноподданные, я у Сталина не обнаружил — кроме того случая, когда он склеил Крылова со школьной «Полтавой»: «Наивные люди! Революционера Камкова, кадета Авсентьева и „расплывчатого“ Чернова они, после ряда неудач, хотят еще раз впрячь в одну телегу!» (контаминация басни «Лебедь, Щука и Рак» с пушкинским стихом «В одну телегу впрячь не можно…»). Не знаю, как это звучало в сталинском оригинале, — ведь приведенную цитату, подобно предыдущей, Сочинения дают в обратном переводе, — но за его редакцию отвечал, безусловно, сам автор. По-грузински — и снова анонимно — цитирует он стихи из горьковского «Буревестника», также включив их в свои Сочинения в перевранном виде: «Пусть сильнее грянет гром, пусть сильнее разразится буря!» (Вместе с тем творчество Горького — которого Авторханов причислил к классикам — он знал хорошо и, по свидетельству М. Джиласа, выше всего ставил дореволюционные рассказы, «Фому Гордеева» и «Городок Окуров»[31], что само по себе интересно, так как эта вещь исполнена в мрачно-сологубовской манере.)
Однажды в полемике с меньшевиками он сравнил их с гоголевским героем, возомнившим себя «королем Испании». Но по большей части ссылки на Гоголя тоже безличны и черпаются из обычного газетного шлака: «Как говорится, унтер-офицерская вдова сама себя высекла». Другие мотивы и образы «Ревизора» фигурируют в неряшливом и противоестественном сочетании с абстрактной мировой классикой, воспринятой понаслышке, вроде мелькающих у него Дон Кихотов с вечными ветряными мельницами: «эсеровские Гамлеты» «бегают петушком» — как Добчинский — вокруг Керенского (так, по Ленину, оппортунисты «петушком, петушком бегут» за русской интеллигенцией); есть и Ляпкины-Тяпкины из эсеровской газеты, и хозяйственный Осип, припасающий веревочку. Все эти гамлеты и дон кихоты — стертые газетно-публицистические фантомы, не состоящие ни в каком родстве со своими литературными тезками. Довольно редки отсылки к «Мертвым душам» — в крохотном диапазоне от стабильной «маниловщины» или «дамы приятной во всех отношениях» до полюбившегося Сталину за политическую грамотность Селифана, который журит крепостную девчонку Пелагею: «Эх ты, черноногая. Не знает, где право, где лево!» За эти скромные пределы гоголеведческая эрудиция Сталина обычно не простирается, а когда он решается их преступить, то покушение кончается конфузом. Поддавшись соблазну литературного соперничества с Троцким, он обвинил последнего в том, что тот «хитроумно приставляет нос Ивана Ивановича XIX столетия к подбородку Ивана Никифоровича XX столетия». Сталин тут перепутал повесть о двух Иванах с «Женитьбой», где к носу приставляются все же губы, а не подбородок, — правда, с анатомией он всегда обходился так же творчески, как порой с литературными цитатами.
И все же он явно вспомнил о Гоголе — причем вовсе не о сатире, а о его казацком эпосе — спустя много лет, на совещании с кинематографистами распекая несчастного А. Авдеенко за сценарий фильма «Закон жизни». Генсек обвинил его тогда среди прочего в примитивизме и, довольно неожиданно, в неумении дать объективную рисовку характеров. Как на образчик односторонней манеры письма он сослался именно на классиков — Гоголя, Шекспира и Грибоедова, концентрировавших все отрицательные черты «в одном лице», отдав взамен предпочтение чеховскому объективизму. Сталин сказал тогда: «У самого последнего подлеца есть человеческие черты, он кого-то любит, кого-то уважает, ради чего-то хочет жертвовать», — а в качестве примера назвал таких «сильных врагов», как Бухарин и Троцкий, наделенных, помимо отрицательных, и «положительными чертами».
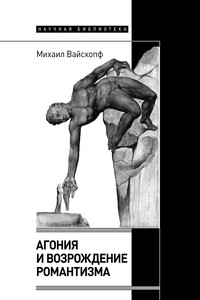
Романтизм в русской литературе, вопреки тезисам школьной программы, – явление, которое вовсе не исчерпывается художественными опытами начала XIX века. Михаил Вайскопф – израильский славист и автор исследования «Влюбленный демиург», послужившего итоговым стимулом для этой книги, – видит в романтике непреходящую основу русской культуры, ее гибельный и вместе с тем живительный метафизический опыт. Его новая книга охватывает столетний период с конца романтического золотого века в 1840-х до 1940-х годов, когда катастрофы XX века оборвали жизни и литературные судьбы последних русских романтиков в широком диапазоне от Булгакова до Мандельштама.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга известного израильского филолога Михаила Вайскопфа посвящена религиозно-метафизическим исканиям русского романтизма, которые нашли выражение в его любовной лирике и трактовке эротических тем. Эта проблематика связывается в исследовании не только с различными западными влияниями, но и с российской духовной традицией, коренящейся в восточном христианстве. Русский романтизм во всем его объеме рассматривается здесь как единый корпус сочинений, связанных единством центрального сюжета. В монографии используется колоссальный материал, большая часть которого в научный обиход введена впервые.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.