Пир у золотого линя - [58]
Мы оба сидим в подвале разрушенной мельницы, в нашем убежище. Печатаем листовки. Их теперь нужно много. Мы думаем распространять их не только у нас в деревне, но и в соседних селах. Вот уже несколько часов мы тут. Дело подвигается медленно. Холодно. Промерзшие за зиму камни пропитались сыростью, даже кости ломит от нее. Вацис работает, как заведенный. На бревне уже лежит несколько десятков листовок.
— Вацис, — спрашиваю я, — слышишь, как пушки гремят?
Друг мой выпрямляется. Подходит к стене нашего убежища. Приникает ухом к сырому камню. Глаза его постепенно оживают.
— Так еще лучше слышно, — говорит он.
Я тоже прикладываю ухо к холодной стене. И верно! Камни словно сами говорят о близости фронта. Стены передают каждый взрыв, каждое подрагивание почвы.
Эх, до чего же славно гремит! И все слышней, слышней!
— За работу, Вацис!
Мой друг медленно возвращается к «столу». Смотрит на буквы, бумагу.
— Не буду я печатать, — вдруг заявляет он.
Я даже рот раскрываю от изумления. Что это значит?
— Почему?
— Надоело.
— Вацис!
— Фронт под носом, а мы тут возимся. Достань оружие.
После того как эсэсовцы убили отца, Вацис целыми днями ломал голову, как бы достать оружие. Из-за него и мне не было покоя: подавай ему оружие, и все тут. Я бы и сам хотел иметь маузер, но где же его взять? Доктор к нам больше не приходил. Он бы, может, и достал. Правда, мама все чаще куда-то уходит по ночам. Я догадываюсь, но не попросишь же у нее маузер. Да она бы и не дала. И потом, можно сражаться с врагом и без оружия. Листовки, которые мы распространяем, это почти оружие. По крайней мере я так считаю. Но Вацису этого не втолкуешь. После смерти отца он переменился. На лбу залегла глубокая складка, плечи сгорбились, поникли. Он почти все время молчит, гитару в руки не берет.
— Вацис, а что бы ты стал делать, если бы было оружие?
— Уложил бы на месте.
— Кого?
— Первого встречного эсэсовца.
По лицу и по голосу его видно, что он не бахвалится. Вацис бы и впрямь убил эсэсовца. А я? Размышляю я недолго. Убил бы. Ясное дело.
— А Пигалицу? — спрашиваю я.
— Уложил бы.
— А Дрейшериса?
— Конечно.
— А Густаса? Как с Густасом?
Вацис молчит. Прищуривается. Думает.
— Не знаю, — колеблется он.
А как же я? Густас — мой злейший враг. Он оккупант, колонизатор, немец, внук Гитлера. Как бы я с ним поступил?
— Вацис, да ведь он немец, фашист, наш враг.
— Значит, и его убил бы, — в каменном подвале гулко звучат слова Вациса. То ли от сырости, то ли от напряженного раздумья меня пробирает дрожь. Надо выбираться на улицу. Надо выйти к теплу, к солнцу. Я знаю: раз Вацис сказал, что больше печатать листовки не станет, значит, так оно и будет. И все же я пытаюсь настаивать:
— Вацис, ну еще хотя бы пять штук.
— Нет. Оружие нужно.
Мы делим листовки на две части. Я прячу свою часть под холщовую рубаху, за пазуху. Приводим в порядок наше убежище и выбираемся наружу.
Небо розовеет. На берегу мельничного ручья цветет черемуха. Ветки так и гнутся под тяжестью цветов. В воздухе стоит крепкий аромат. Майский день принимает нас в свои объятия и постепенно согревает. А на востоке все не смолкает гул. Гул этот вселяет радость и надежду. Мы оба идем по улице и не прячемся, даже усадьбу Дрейшериса не обходим стороной. Что за беда, если встретимся с оккупантом? С приближением фронта Дрейшерис изменился. Не суется в чужие дворы, здороваться стал с людьми. Видать, и Густасу он велел вести себя осторожнее, не лезть, куда не следует. Ясно, что песенка оккупантов спета. Мы хозяева, нам принадлежит деревенская улица. Чего же нам бояться?
Когда мы проходим мимо дома Дрейшериса, я шучу, размахиваю руками, громко разговариваю. Вацис идет молча, но тоже улыбается. Он доволен.
— Привет, ребята!
Мы поворачиваемся. Во дворе стоит Густас. Это он с нами поздоровался. Я смотрю на него. Густас как Густас — в коричневой форме, с «монтекристо». И все-таки уже не тот. Какой-то пришибленный, робкий.
— Гутен таг! — говорю я усмехаясь.
Вацис косится на меня. Сердится, значит. По двору проходит мать Густаса, толстуха Мальвина.
— Зови друзей в дом, — говорит она сыну.
Ну, этого уж мы никак не ожидали. «Друзей в дом!» С каких это пор мы стали друзьями?
— Йе-йе, заходите, — зовет Густас, направляясь к нам.
Вацис дергает меня за рукав. Мы поворачиваемся и идем прочь.
— Йе, «монтекристо» дам, постреляем! — кричит Густас.
Вацис сразу останавливается. Я смотрю на него и вздрагиваю.
— Давай, — говорит он и направляется к Густасу.
— Йе, тут шесть патронов. Стреляйте.
«А Густас? Как с Густасом? — мелькает у меня в голове. — Значит, и его убил бы».
Я бросаюсь между ними.
— Уходи, пошел отсюда! — ору я на Густаса.
— Йе, йе, я же ничего не делаю.
— Пошел!
Густас пятится. Уходит к себе во двор. Закрывает калитку.
— Йе, немцы отшвырнут русских. Йе-е, — вякает он.
Вацис стоит, сощурив глаза. Плотно сжав губы. Я силком волоку его дальше. Слышу, как колотится мое сердце. Что он задумал? Ясное дело…
— Дурак, — бросает мне Вацис и поворачивает к своему дому.
Пусть говорит, пусть думает что угодно. Пусть я дурак. Зато хорошо, очень хорошо, что Вацис не взял у Густаса «монтекристо».
Дома меня встречают другие неожиданности. Только вхожу в избу, как ловлю на себе мамин взгляд. Она чем-то взволнована, обрадована.
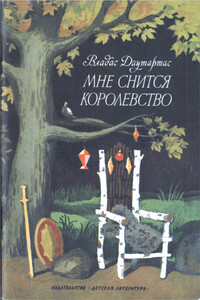
В книгу известного литовского прозаика лауреата Государственной премии Литовской ССР вошли издававшаяся ранее повесть «Он — Капитан Сорвиголова» о «трудных детях» и новая повесть «Мне снится королевство» о деревенском подпаске-бедняке в довоенной буржуазной Литве.
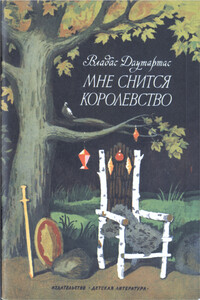
В книгу известного литовского прозаика лауреата Государственной премии Литовской ССР вошли издававшаяся ранее повесть «Он — Капитан Сорвиголова» о «трудных детях» и новая повесть «Мне снится королевство» о деревенском подпаске-бедняке в довоенной буржуазной Литве.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.