Пифагор - [104]
Не удивительно, что именно они первыми из пифагорейцев стали писать о своем учении. «Пионером» в данном отношении, согласно наиболее надежной традиции, выступил Филолай. «Учение Пифагорово невозможно было узнать до
Филолая: только Филолай обнародовал три прославленные книги…» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VIII. 15). Это нужно понимать в том смысле, что Филолай, конечно, сам написал эти книги, в которых изложил суть пифагореизма, как он ее понимал; но вот опубликовал их, вероятно, под именем Пифагора — из скромности и пиетета перед учителем.
Вторит Диогену Лаэртскому Ямвлих: «…Никто не читал пифагорейских записок до времени Филолая: он впервые обнародовал те пресловутые три книги… лишь потому, что впал в крайнюю нужду. Он сам принадлежал к пифагорейскому братству и поэтому сочинил эти книги» (Ямвлих. Жизнь Пифагора. 31. 199). Тут даже более ясно сказано, что произведения, о которых идет речь, вышли из-под пера самого Филолая. Автор еще более поздний — христианский епископ Евсевий, живший в IV веке н. э., пишет: «…Тот, кто предал беседы Пифагора письменной огласке, — Филолай» (Евсевий Кесарийский. Против Гиерокла. 380, 8 Kayser). Заметим только, что лично беседы Пифагора Филолай, разумеется, слышать не мог, так что тут имеется в виду нечто более общее — разглашение пифагорейской традиции.
Инициатива Филолая по вполне понятным причинам породила замешательство в более консервативном «крыле» пифагорейского содружества. С одной стороны, сам этот факт мог быть там воспринят только крайне отрицательно: он, повторим, в глазах «акусматиков» являл собой прямую измену, более того — профанацию святынь. С другой стороны, имя такого крупного философа, как Филолай, было весьма авторитетно, и не так-то просто увязывались с ним негативные ассоциации. Хотелось, во всяком случае, очистить от них репутацию прославленного представителя школы. В результате возникло мнение, что подлинным-то «предателем» был не он, а еще до него какой-то другой пифагореец, некий Гиппас из Метапонта. Этот Гиппас — фигура достаточно загадочная. В историчности оного персонажа сомневаться вроде бы не приходится, но даже время его жизни является предметом дискуссий (то ли рубеж VI—V веков до н. э., то ли середина или даже вторая половина V века до н. э.)[171]. «Вообще Гиппас в пифагорейской традиции обрисован в мрачных тонах…»[172] Ему приписываются и общая неприязнь к Пифагору (он-де участвовал даже в заговоре Килона), и, в частности, пресловутая выдача секретов школы. Но, впрочем, в полной мере серьезно относиться ко всему этому трудно.
Как бы то ни было, при всех разногласиях сохранялось и нечто общее, объединявшее всех пифагорейцев. И в том числе знаменитая пифагорейская дружба. «Друзей он любил безмерно» — встречали мы, в числе прочих, и такое высказывание о Пифагоре. «Друг — второе я», «у друзей всё общее» — всё это ведь пифагорейские сентенции. Этих заветов последователи Пифагора продолжали держаться. Вот один в высшей степени характерный эпизод, относящийся к середине IV века до н. э., когда в Сиракузах — крупнейшем греческом городе Сицилии, то есть не слишком далеко от места рождения пифагорейства — правил неглупый, но жестокий и развращенный тиран Дионисий Младший[173].
Об этом тиране, а заодно и о его отце-тезке у нас еще будет повод поговорить в связи с судьбой Платона, который безуспешно пытался переделать их обоих (по очереди) в пресловутых «философов-правителей». Дионисию Младшему, впрочем, не чужды были и возвышенные порывы, но чаще они подавлялись самодурскими позывами, неизбежными для человека, поставленного по правам наследования в положение верховного и бесконтрольного властителя.
И характер Дионисия, и — особенно — пифагорейскую дружбу в высшей степени удачно иллюстрирует история о двух сиракузских пифагорейцах, Дамоне и Финтий. Рассказы об этой паре в античности были хрестоматийными. Приводим один из самых подробных:
«Во времена тирании Дионисия один пифагореец, Финтии, участвовал в заговоре против тирана. Осужденный на казнь, он попросил у Дионисия отсрочки, чтобы прежде уладить свои дела, а поручителем смерти обещал дать одного из своих друзей. Деспот подивился тому, что есть такой друг, который сам себя предаст в темницу за него, а Финтий позвал одного своего приятеля, философа-пифагорейца по имени Дамон, который без колебания сразу же согласился стать поручителем смерти. Одни хвалили поручителя за чрезмерную любовь к другу, другие осуждали за опрометчивость и считали сумасшедшим. В назначенный час сбежался весь народ, сгорая от любопытства: сдержит ли слово давший поручителя. Время уже истекало, и все отчаялись ждать, как вдруг неожиданно в последний момент прибежал Финтий, когда Дамона уже вели на казнь. Всех так восхитила их дружба, что Дионисий помиловал осужденного и напросился к ним в друзья третьим» (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. X. 4. 3).
Думается, каждый понимает, о чем здесь шла речь. Ныне далеко не каждый согласится стать поручителем — хоть за близкого друга! — даже если речь идет о простом банковском кредите. Ибо не раз уже бывало, что человек, которому поверил поручитель, скрывался и на того падали его обязательства. Да почему, собственно, только «ныне»? Так было во все времена. А тут перед нами иное, куда более суровое поручительство — за человека, приговоренного к казни. Не вернется он вовремя — вместо него умрет поручитель. Пифагореец Дамон, нимало не сомневаясь, пошел на это (а ведь он был моложе Финтия, и они, кстати, по пифагорейскому обычаю вели совместное хозяйство).
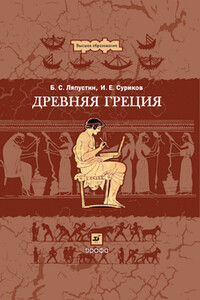
В учебном пособии представлен материал по истории Древней Греции, изучаемой студентами исторических специальностей вузов в курсе «История Древнего мира».Цивилизационный подход к освещению развития древнегреческого мира позволяет по-новому рассказать о многих исторических феноменах, о различных сторонах жизни древнегреческого общества.Изложение материала и датировка событий опираются на новейшие научные разработки. В каждой главе приведены основные источниковедческие и историографические сведения, указана литература по теме.
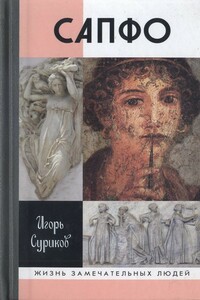
Сапфо — фигура, известная, наверное, всем. Она — первая не только в Древней Греции, но и во всей истории человечества женщина-поэтесса, автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в золотой фонд мировой литературы. О жизни Сапфо известно немного, но даже из этих скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее эпохе посвящена эта книга, в которой — в связи с судьбой героини — подробно говорится и о положении женщин в античном греческом мире в целом.знак информационной продукции 16+.
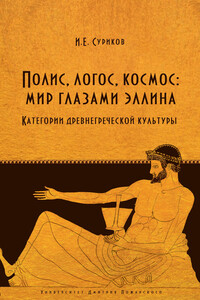
Вклад древних греков в мировую и особенно европейскую историю колоссален. Античная греческая цивилизация – в полном смысле слова фундамент всей последующей жизни Европы. Без преувеличения можно сказать, что ни один другой народ не обогатил культурную сокровищницу человечества таким количеством шедевров и плодотворных идей. Успехи эллинов во всех областях культурного творчества были феноменальными, неповторимыми.Книга о древнегреческой культуре, о народе, создавшем эту культуру, об особенностях его мировосприятия, сознания, системы ценностей, о его «картине мира» – это книга о важном, основополагающем, фактически о наших корнях.
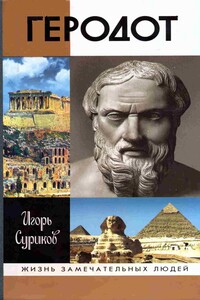
Геродота уже в древности называли «Отцом истории» — и «отцом лжи». Он был знаком с политиком Периклом, драматургом Софоклом, скульптором Фидием, философом Протагором. Грек, являвшийся подданным Персидской державы, участник заговора против тирании, политэмигрант, один из основателей колонии, Геродот десятки лет неутомимо путешествовал, собирая сведения для своей «Истории». Он побывал в различных уголках известного тогда мира, от Египта и Вавилона до Италии и северного побережья Черного моря, и первым изобразил исторический процесс как вековой конфликт Востока и Запада.Книга доктора исторических наук Игоря Сурикова — о великом античном историке, его труде и его времени.
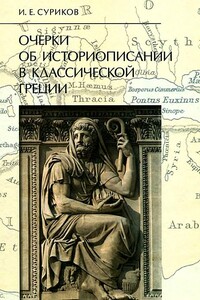
Монография представляет собой результат исследований в области древнегреческой историографии, проводившихся автором на протяжении ряда лет. Книга состоит из двух частей. В главах первой части анализируются общие особенности исторической памяти и исторического сознания в античной Греции. Освещаются следующие сюжеты: соотношение исследования и хроники в историографии, аспекты зарождения исторической мысли, место мифа в конструировании прошлого, циклистские и линейные представления об историческом процессе, взаимовлияние историописания и драматургии, локальные традиции историописания в античном греческом мире, элементы иррационального в произведениях классических греческих историков и др. Вторая часть посвящена различным проблемам творчества «отца истории» Геродота.
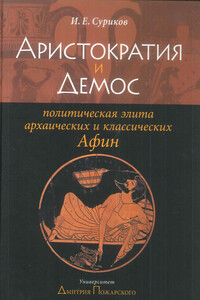
Огромную роль в общественной жизни древнегреческих государств играли политические элиты различного характера. Поэтому одной из наиболее серьезных проблем, встающих в связи с изучением античного греческого полиса и сложившегося в его рамках социума, является роль политических элит в нем. В книге освещается круг проблем, связанных с местом элит в полисе, их типологией, их механизмами власти и идеологическим обоснованием этой власти. Затронуты такие вопросы, как основные типы полисных элит, методы достижения и сохранения влияния, практиковавшиеся элитами, взаимоотношения элит и гражданского коллектива, их эволюция в связи с изменением общих исторических условий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
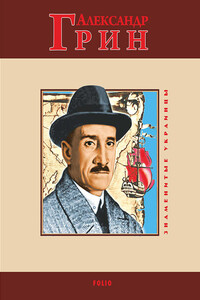
Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.
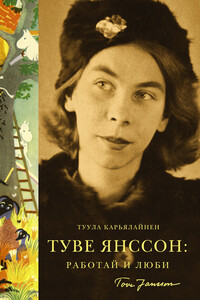
Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.