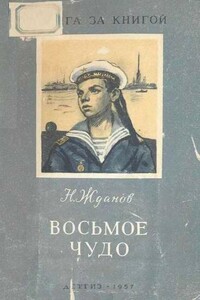Петроградская повесть. Морская соль - [4]
— Ладно, никуда не денется твой поручик, наш будет. Зато мы теперь с артиллерией!
Красногвардейцы разворачивают орудия, покрикивая на лошадей, и сами, вместо юнкеров, садятся на стволы, на лафеты и зарядные ящики.
Митрия тоже усаживают на повозку. Он посмеивается и машет нам рукой, как будто ему совсем не больно.
Проходит ещё несколько минут, и красногвардейский отряд с песней исчезает за поворотом улицы.
— Вот и встретила внука, — весело говорит бабушке солдат Серафимов и легко, как пушинку, вскидывает на плечо тяжёлый саквояж.
Идти нам недалеко. Сразу за забором Серафимов сворачивает в переулок и, миновав замощённую булыжником мостовую, входит под низкую каменную арку подъезда.
Пахнет сыростью. На тёмном потолке тускло горит лампочка в ржавой железной сетке.
Солдат толкает ещё одну дверь. Мы спускаемся на несколько ступенек и входим в тесную комнату с единственным окном, приходящимся в уровень с мостовой. По стене тянется мокрая водопроводная труба; шипя, горит примус на железной плите.
У окна за столом, покрытым клеёнкой, сидит у швейной машинки пожилая женщина с озабоченным лицом.
— Гостей привёл, — говорит солдат Серафимов и складывает у дверей принесённые вещи. — Кременцов просил, пусть, дескать, переночуют: из деревни приехали.
Женщина перестаёт шить и глядит на нас усталыми глазами.
— Только вас тут недоставало! — хмуро говорит она.
КАШЕВАР
Скоро ночь. Мы с Настенькой лежим на матраце, который нам постелили на полу за плитой. Настенька наконец перестала вертеться и заснула. А мне не спится. Я выспался ещё днём. Хозяйка согрела на примусе чайник, и все мы пили чай и доедали оставшиеся калитки. От чая и от еды меня так разморило, что я задремал на лавке, прислушиваясь к тому, как бабушка рассказывает хозяйке про нашу маму, про школу и про свой дом, который «кинула» без присмотра. Настеньке дали кусок сахару, и она отгрызала от него понемножку и дула в блюдце с горячим чаем, так что щёки её делались совсем круглыми, а на носу появлялись крупные капли пота.
Заметив, что у меня слипаются глаза, бабушка накрыла меня курточкой, и мне стало так хорошо и уютно, что я проспал до самого вечера.
И вот теперь мне не до сна.
Хозяйка по-прежнему шьёт, бабушка же стоит на коленях в углу и молится. Она просит Николая-угодника, чтобы он не оставил рабов божиих Григория и Анастасию, потому что они маленькие, неразумные и у них нет матери и нет отца. Бабушка крестится медленно, подолгу задерживает руку на лбу и, кланяясь, прижимается головой к полу.
На её месте я давно бы отмолился. Я тоже знаю наизусть «Отче наш, иже еси на небеси» и «Богородица, дева, радуйся» и умею читать их так быстро, что оглянуться не успеешь.
Наконец бабушка ложится на лавку, где днём спал я, и, подложив под голову сумку, сразу же засыпает.
Они не слышит, как отворяется дверь и входит солдат Серафимов.
Постояв немного, он садится на порог, критически оглядывая свой сапоги.
— Ишь разъехались, что твоя империя, — по всем швам, — ворчит он и начинает переобуваться.
— Варишь-то чего? — спрашивает хозяйка.
— Кулеш сегодня богатый. А ты всё шьёшь?
— Жить каждому надо. Зачерпнул бы немного, ребят утром накормить.
— Можно будет, — соглашается солдат.
Хозяйка подходит к плите, берёт с полки пустую кастрюлю и вытирает её передником.
— Сам, что ли, принесёшь или мне прийти?
— Да вон парнишка помоложе, сбегает со мной.
Пока солдат перематывает портянки, курит и говорит хозяйке, что тут у них в городе жизнь неправильная, не настоящая, а правильная жизнь только в деревне, я успеваю одеться.
На улице темно. В окнах домов горит свет.
Вслед за солдатом я с кастрюлей в руках прохожу через двор, заставленный штабелями дров, пролезаю в заборную щель и, к своему удивлению, попадаю на плац перед казармами.
У ворот с деревянным грибом стоят две запряжённые в повозку лошади и, уткнув головы в торбы с овсом, мирно похрустывают.
Никогда в жизни я не видел такой повозки. Вместо тарантаса или плетёнки на колёсах укреплён большой котёл с крышкой, а под ним топка, как у кухонной плиты.
Серафимов забрался на повозку, поднял крышку и заглянул в котёл.
— Вот незадача — не кипит, и всё тут!
Спрыгнув, он подходит к топке и открывает дверцу: под котлом, шипя и выпуская пену, коптятся сырые поленья.
Из темноты выбегает человек в распахнутой шинели без ремня.
— Не придут наши, — говорит он Серафимову. — Кухню велено туда подгонять, понял?
— Чего ж не понять? Не велика премудрость. Раз велено, то и подгоню, — спокойно отзывается кашевар.
— Только, гляди, побыстрей. Да коли из других частей станут приставать, не давай: своим береги.
— Ясное дело — своим. Да кулеш-то не упрел ещё.
— По дороге упреет.
Серафимов, ворча, достаёт из-под крыльца старую доску и, разломав, подкидывает в топку. Сухие щепки сразу же загораются, и в котле что-то глухо булькает.
Некоторое время Серафимов ещё возится у топки, затем поворачивается ко мне.
— Ну вот, парень, незадача какая. Ехать вишь надо. А он у меня не упрел. В другой раз угощу. Иди домой: бабка тревожиться станет.
Ах, как мне не хочется уходить от кашевара!
— Нет, бабушка не станет тревожиться, она ведь спит, и Настенька тоже спит, — бормочу я. — Возьмите меня, дядя Серафимов, пожалуйста! Я баловаться не буду. Я лошадьми править могу и в топку подброшу…

Незадолго до вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз молодой талантливый ученый Генрих Клемме работал ассистентом в лаборатории профессора Орби. Клемме не подозревал, что могучая энергия атома может не только служить на благо человечества, но и принести неисчислимые бедствия. Случайно ученый узнает, что гитлеровцы хотят использовать это открытие в военных целях, применить его для массового истребления людей. Летом 1941 года Клемме переходит линию фронта… О приключениях Генриха Клемме и его новых друзей — доктора Тростникова и его дочери Тони, школьника Миши Смолинцева, летчика Багрейчука и других — рассказывается в этой повести.

В октябре 1917 года, в дни Великой Октябрьской социалистической революции, в Петроград приезжает девятилетний мальчик Гриша Бугров со своей маленькой сестрёнкой. У них умерла мать, и они разыскивают в городе тётю Юлю. Гриша попадает в солдатскую казарму, знакомится с красногвардейцем Кременцовым, солдатом-кашеваром Серафимовым, матросом Панфиловым и другими людьми. Он становится свидетелем исторического штурма Зимнего дворца, расклеивает на улицах города первые декреты Советской власти «О мире» и «О земле» и случайно нападает на след готовящегося юнкерского мятежа.
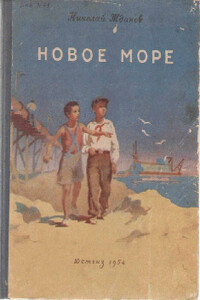
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть «Морская соль» посвящена жизни маленьких моряков-нахимовцев в первые годы после Великой Отечественной войны.

Книга «Приключения лесной ведьмочки Шиши» — результат социального проекта газеты «Вечерняя Москва», издательства АСТ и компании «Книга по требованию». Сказку написала сибирячка (г. Новокузнецк) Тамара Черемнова — инвалид детства с тяжелой формой ДЦП: парализованы руки и ноги, сильно нарушена координация движений, затруднена речь. И при этом светлый ум, умение радоваться жизни и доброе отношение к людям. Тамара не захотела мириться с жалкой участью пассивной инвалидки-колясочницы — и начала писать рассказы, очерки, сказки, сразу проявив свой яркий литературный талант.
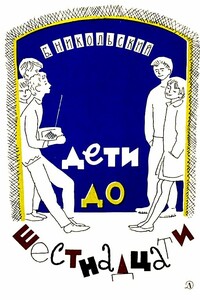
Герои этой повести - обыкновенные городские ребята По вечерам они собираются во дворе, слушают «Спидолу», спорят о футболе и боксе. Иногда все вместе отправляются в кино или на стадион. Короче говоря, на первый взгляд кажется, что жизнь их идет без особенных происшествий. Но ребята взрослеют и все чаще задумываются над жизненными вопросами, все внимательнее присматриваются к жизни взрослых. И отношения их с родителями становятся более сложными, а порой и нелегкими… Художник Леонтий Филиппович Селизаров.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть о египетском поэте и борце за свободу и независимость своей родины — Абд ар-Рахмаие аль-Хамиси.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.