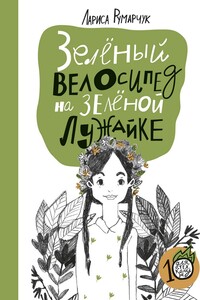— Да, вам хорошо говорить «сам учи». Водки напьетесь, а потом ничего показать не можете…
— Балбес! — вспылил отец. — Когда я учился, мне никто не показывал. А если ты еще раз дерзость скажешь — я тебе уши оборву, свинья!
Надувшись, отец пошел в столовую. Там сердито сказал жене:
— Ванька-то наш отстал, а теперь бьется, как рыба об лед. По-гречески — ни в зуб.
— А ты бы поменьше пил, — тихо и осторожно сказала жена. — Лучше бы за эти деньги репетитора взял.
— «Репетитора»! — передразнил отец. — А два месяца за квартиру не плачено — это как? Ничего? А Верка без ботинок, а Ольга без чулок — это тоже тебе ничего? Эх, вы!
Он походил еще по комнате, потом исчез в прихожей и оттуда крикнул:
— К ужину меня не ждите. Я пошел…
— Опять в клуб?
— Какой там клуб. На службу. На вечерние занятия… Разве на одно жалованье проживешь?
Надел порыжевшее пальто, сбитые калоши и ушел.
А Самоха все еще сидел над книгой.
— Нет, — печально вздохнул он, — придется завтра содрать у кого-нибудь и задачу, и перевод…
На другой день Афиноген Егорович снова вызвал его и сказал сухо:
— Читайте-с и переводите-с.
Самохин стал отвечать урок, но сейчас же запутался, остановился.
— Что же это вы, сударь мой, государь мой милостивый, ничего не знаете? Нехорошо-с. Стыдно-с. С-садитесь.
— Да я болел ведь, — снова с досадой напомнил Самохин, — ну и пропустил много.
— Болел? Это мне хорошо известно. Но что поделаешь? Конечно, не знать по причине болезни весьма и весьма уважительно, но не менее уважительно и по достоинству оценить ваши знания. Сожалею, но принужден поставить вам неудовлетворительную отметку. Двоечку-с. Второй год сидите. Никаких болезней не признаю-с.
Самохин с обидой посмотрел на Афиногена Егоровича. Захотелось ему сказать что-нибудь злое, грубое. Однако сдержался. Пошел и сел на место и сунул с досадой учебник в парту. Сломал пополам переплет. Но и это не облегчило. Обида росла. Надо было сделать еще что-то такое, отчего непременно стало бы легче.
Сложил губы трубочкой, чуть дунул и…
Все ученики и Афиноген Егорович остолбенели. Остолбенел и Самохин. Он испуганно зажал рот рукой и вытаращил глаза.
— Пре-лестно… — развел руками Афиноген Егорович. — Бес-подобно… И после этого вы, Самохин, будете утверждать…
Афиноген Егорович, запнулся, покраснел и вдруг взвизгнул:
— Марш из класса! Под часы! Без обеда!
Самохин поднялся, прикусил губу и стоял, готовый заплакать.
— Что же вы ждете? Хотите, чтобы вас под руки вывели? — не унимался Швабра.
Самохин пошел. У двери на секунду остановился, растерянно осмотрел на товарищей, вздохнул и оставил класс.
В коридоре, куда он вышел, было тихо, сумрачно и пустынно. На паркетном полу вырисовывались отпечатки множества ног. Кое-где валялись клочки бумажек…
Под часы Самохин не встал. Посмотрел направо, налево и медленно поплелся к уборной. Там, в суровом раздумье, он и дождался звонка.
— Злоподобная Швабра! — с горечью говорил Самохин товарищам. — Чтоб ему на том свете древние греки бока намяли. Вот назло не буду теперь учиться.
Отсидев два часа без обеда, он явился домой.
— Где пропадал? — крикнул из другой комнаты отец.
— Спевка была…
— Садись ешь… «Спевка», — вздохнула мать. — Бледный опять ты какой. Не болит ничего?
— Ничего…
Самоха поел наскоро и пошел в свою комнату. Было обидно. Едкое зло накипало на сердце.
Сел за уроки. Пропала к ученью охота, такими противными показались книги. Отодвинул брезгливо их от себя и долго бесцельно смотрел на стол. Тихо раскрыл тетрадь, вздохнул, обмакнул перо и стал сочинять стихи. Написал:
Хоть учись, хоть не учись —
Даст отец головомойку,
Потому что Швабра мне
Все равно поставит двойку.
Если труд идет мой зря.
Так зачем же мне трудиться?
Я с сегодняшнего дня
Не хочу совсем учиться.
Не брани меня, отец,
Не печалься, мама,
Светлым дням пришел конец,
В моей жизни — драма.
В классе буду я теперь
Жить отчайно храбро.
Стал я самый лютый зверь.
Берегися, Швабра!
Прошло два дня. Самохин остыл, успокоился. Сидел на уроке и слушал, как математик Адриан Адрианович объяснял теорему.
Забрав в кулак большую пушистую бороду, математик спросил:
— Нифонтов, поняли?
— Понял…
— Повторите.
Длинный и тонкий, в коротких брючках, Нифонтов вышел к доске. Вышел и встал, как жираф у пальмы.
— Равенство треугольников, — начал он, подумал и переступил с ноги на ногу. — Треугольников… Вот возьмем треугольник А, Б, Ц…
Начертил на доске кривую, смутился, стер, начертил снова, поводил по чертежу грязным пальцем и, уронив голову, безмолвно поник.
— Ну, что же вы? — спросил учитель и выпустил из рук бороду. Борода развернулась широким веером и заслонила всю грудь.
— Если А, то есть Б, равно… То есть, виноват… Если Б…
— Эх! — не вытерпел Самохин. — Мямлишь там, топчешься, как журавль, на месте.
Учитель к нему:
— Идите-ка сами к доске.
Самохин посмотрел на него голубыми глазами, весело выбежал из-за парты, взял у Нифонтова из рук мел и — раз-два-три — доказал теорему.
— Ну вот, видите, можете же учиться, — ласково сказал математик.
— Да… Только отстал я, пропустил много, трудно теперь…
— Догоняйте. Вы способный. Я помогу. Приходите ко мне домой.
На перемене Самохину стало вновь радостно. Сказал Корягину: