Первый арест. Возвращение в Бухарест - [87]
Вот и широкий, просторный бульвар Элизабета с мигающими названиями кинотеатров и портретами кинозвезд на фасадах домов, вот Университетская площадь, белые статуи Спиру Харет, Георге Лазаря, Шинкай в гипсовых сюртуках, и среди них скачет на чугунном коке Михай Витязу, тяжеловесный и анахроничный, как поэма Болинтиняну. Затем узкие торговые улочки района Липскань и сама Липскань — длинная, тесная, вся в витринах, словно стеклянная труба, завешенная сукнами и шелками. Дымбовица. Огромная мрачная глыба Дворца юстиции, нависшая над невидимой, стиснутой высокими берегами рекой. Длинные силуэты крытых павильонов Центрального рынка. Плоские мосты. Ночные кабачки, все еще истекающие желтым светом и грустными звуками цимбал.
Я сидел в первой машине вместе с Гицей, Долфи и Виктором. В ушах звенело, и после чада ночных ресторанов приятно было подставлять лицо теплому ветру, вдыхать полной грудью ночной воздух и смотреть на несущиеся нам навстречу знакомые очертания улиц, площадей, многоэтажных домов с искорками огней в окнах. Вообще я любил ночной Бухарест. Нет, я вовсе не забывал про эксплуатацию, жульничество и все прочее. Просто ночью все это не так бросалось в глаза. Вот и теперь все было иначе, чем днем, все окутано волшебными светотенями. У дверей ночных ресторанов стояли цыганки с корзинами цветов, и, хотя я успевал увидеть только темные бестелесные лица и яркие вращающиеся зрачки, каждая цветочница казалась мне прекрасной, как Рада в стихах Аргези…
Машина проскочила площадь Сената и въехала на Каля Раховей. Мы молчали, а Гица болтал без умолку. Все, что он говорил, было «безусловно», а все, что говорили другие, — «Aiurea». Безусловно важно только то, что происходит сейчас, каждое мгновение — лучшее мгновение, потому что оно твое. Кто хочет веселиться, должен забыть все. Человек бывает счастлив, только когда забывает. «Давайте петь, — шумел Гица. — «Гаудеамус игитур»… Или ту русскую песню, которая мне нравится: «По морям, по волнам… нынче здесь, завтра там…» Нынче здесь, завтра там… А послезавтра где?» — «Послезавтра безусловно в тюрьме», — сказал Виктор. «Братцы, если меня посадят, — сказал вдруг Пауль, — я не боюсь. Пусть меня изобьют. В детстве меня здорово лупили веником». — «А что ты при этом испытывал?» — спросил Флориан. Тут начался интересный разговор про то, как избивают в сигуранце и в полиции, а Гица бесился и кричал: «Aiurea! Вы не умеете веселиться. Шофер, сворачивай к бару «Зису». Веселье безусловно не получается. Выпьем еще по маленькой».
Переезды из одного ресторана в другой продолжались. Флориан перестал записывать «фазы опьянения», потому что был по-настоящему пьян. Алеша путал латинские и греческие цитаты, а мне почему-то стало ужасно грустно, я вспомнил Неллу, Дима, Анку и решил, что я окончательно пропал: все они заняты разумным и полезным делом, а я превратился в подонка вроде Гицы. Страшное дело: я вдруг вообразил, что я и Гица одно и то же лицо. Вот я валяюсь утром в постели и жду, пока по улице не промчатся разносчики газет с криком «Темпо»!» — это значит, уже двенадцать часов, можно вставать. Вот я шатаюсь по коридорам с сонной мордой, и какой-то пижон в твидовом пиджаке спрашивает: «Пойдешь с нами выпить?» Потом я представил себе, как встречаю в пьяном виде Анку и она не хочет со мной разговаривать.
Проклятое вино. Я тут же решил бежать из кабака, но, как только я встал, пол и стены закачались. Пришлось сесть, чтобы остановить качку, но и это не помогло. Теперь все вокруг меня качалось: стойка бара, лица, прически, челюсти, дымящиеся сигары; а очки сидевшего напротив меня Долфи описывали круги отдельно от его бледного, осунувшегося лица…
Мир перестал качаться и начал снова оставлять следы в памяти только под утро, когда мы приехали на Центральный рынок освежиться тарелкой ciorbă de burtă[20].
Утро было прохладное, с низкими облаками, разбросанными, как серые кляксы, над темными крышами домов. От крестьянских возов, стоявших вдоль набережной Дымбовицы, пахло летом. Во всем была радость наступающего дня, только в узком как кишка ресторанном зале, где нам подали чорбу, все было перемешано: день и ночь, вчера и сегодня, а в самом дальнем углу четыре человека в засаленных кепках молча и сосредоточенно играли в карты; там же двое спали сидя, нахлобучив кепки на глаза; судя по всему, эта компания торчала здесь еще с позавчера.
Съев по тарелке кислой, пронизывающей до самого сердца чорбы, мы почувствовали себя лучше. Знаменитая чорба буквально промыла нам все внутренности, и Гица тут же предложил поехать в «Кафе де ля Пэ» выпить итальянского вермута. «Вермут к завтраку?» — спросил изумленный Долфи. «Aiurea! Там и водка найдется. Поехали!» — сказал Гица, но никто не поддержал его предложения. Выйдя из ресторана, мы попрощались и разошлись.
Так закончилась эта шумная ночь, которую я потом часто вспоминал, потому что именно в эту ночь решилась моя дальнейшая судьба. Тогда я этого еще не знал. Я шел домой в поганом настроении, хмель прошел, но отчаянно болела голова, и я смотрел на мирные будничные картинки начинающегося дня, совсем не подозревая, что закончилась последняя ночь моего юношеского легкомысленного существования и начался первый день испытаний в моей новой нелегкой судьбе.

Илья Давыдович Константиновский (рум. Ilia Constantinovschi, 21 мая 1913, Вилков Измаильского уезда Бессарабской губернии – 1995, Москва) – русский писатель, драматург и переводчик. Илья Константиновский родился в рыбачьем посаде Вилков Измаильского уезда Бессарабской губернии (ныне – Килийский район Одесской области Украины) в 1913 году. В 1936 году окончил юридический факультет Бухарестского университета. Принимал участие в подпольном коммунистическом движении в Румынии. Печататься начал в 1930 году на румынском языке, в 1940 году перешёл на русский язык.
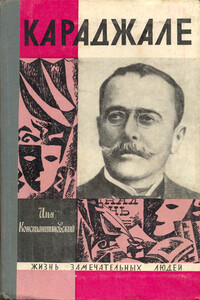
Виднейший представитель критического реализма в румынской литературе, Й.Л.Караджале был трезвым и зорким наблюдателем современного ему общества, тонким аналитиком человеческой души. Создатель целой галереи запоминающихся типов, чрезвычайно требовательный к себе художник, он является непревзойденным в румынской литературе мастером комизма характеров, положений и лексики, а также устного стиля. Диалог его персонажей всегда отличается безупречной правдивостью, достоверностью.Творчество Караджале, полное блеска и свежести, доказало, на протяжении десятилетий, свою жизненность, подтвержденную бесчисленными изданиями его сочинений, их переводом на многие языки и постановкой его пьес за рубежом.Подобно тому, как Эминеску обобщил опыт своих предшественников, подняв румынскую поэзию до вершин бессмертного искусства, Караджале был продолжателем румынских традиций сатирической комедии, подарив ей свои несравненные шедевры.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».