“Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева - [3]
Две сильных натуры, две сильных воли вступают на заднем плане этой повести в поединок. Обе они терпят поражение, теряют свою волю, своё состояние невозмутимости, падают в любовь — и по очереди умирают: вслед за отцом умерла через несколько лет при родах вышедшая замуж Зинаида (возможно, неудачные роды — следствие аборта или первых родов, от отца). Мы ещё вернёмся к вопросу о победителе этой любовной дуэли, но пока я хотел бы расширить круг литературных ассоциаций и выйти за пределы смутного термина “байронизм”, непонятно что и означающего. Ибо в байронизме смешаны две разные тенденции, имеющиеся в творчестве Байрона — та, что зафиксирована в “Чайлд-Гарольде” и та, что вытекает из “Дон-Жуана”. Ряд английских и американских исследователей творчества Байрона считают, что тот “романтизм”, который сопутствует “Чайлд-Гарольду” и подобным ей байроновским поэмам и трагедиям, был имитируемой Байроном, достаточно рефлексивной “маской”, созданной на потребу моде и публике по заказу издателей, но чуждой эстетическим вкусам самого Байрона. Его произведение “для себя”, резко отличающееся стилем и умонастроением — это “Дон-Жуан”, следующий традициям 18 века, той его линии, которая именуется “либертинским романом”. Паллиатив, сконструированный в 20-е годы 19 века из Чайлд-Гарольда, Дон-Жуана и элементов биографии самогоБайрона, был чрезвычайно продуктивным — в том числе и в России — бульоном, из которого произросли, в частности, многие темы Пушкина, Лермонтова, и многих других. Однако с точки зрения литературной эволюции пользование термином “байронизм” мало что объясняет, скорее — крайне запутывает исследование тенденций и зависимостей, особенно создавая ещё один метапаллиатив с не менее смутным термином “романтизм”. Не являясь специалистом по Байрону, я не буду здесь вдаваться в детали этой интересной проблемы. Но мне кажется, что и помимо выяснения генеалогий байронизма прослеживается любопытная параллель между дуэлью отца и Зинаиды и некоторыми сюжетными линиями знаменитого либертинского романа — “Опасных связей” Шодерло де Лакло. Прежде всего — с темой “дуэли” двух либертинов — виконта Вальмонта и маркизы Мертёй. Разумеется, делать прямое сопоставление с этим замечательным романом невозможно, но сам дух дуэли двух существ, привыкших скучающе соблазнять и побеждать, в котором одно из существ (Вальмонт) вдруг оказывается слабее, ибо выходит из состояния скучающей донжуанской невозмутимости и почти влюбляется в свою протагонистку (маркизу Мертей) — и в силу этого погибает, — сам этот дух и способ эволюции конфликта двух соблазнителей — ощутим в воздухе, из которого сгущается драма “Первой любви”.
Такая достаточно смутная ассоциация между либертинским романом и повестью Тургенева может быть закреплена более широкой постановкой вопроса о генеалогии всех этих скучающих развратителей, кочующих по страницам разнообразных произведений русской и европейской литературы. Разумеется, фигура “лишнего человека”, которой русская критика так силилась придать сугубо русский облик — универсальный штамп европейской литературной ситуации первой трети 19 века. От Шатобриана до Стендаля, от Байрона и Сенанкура до Жорж Занд — легко обнаружить один и тот же тип мужского персонажа: потерявшего энергию, скучающего, не знающего, к какому делу себя пристроить аристократа. Его дегенеративности противостоит сплошь и рядом тип энергичной, целеустремлённой, но не находящей возможности для применения своих сил молодой женщины или девушки. Функция дегенеративного мужского персонажа — дать женщине простор для реализации скрытых сил, а самому сойти со сцены и погибнуть.[3]Не правда ли, весьма напоминает расхожую схему романов Тургенева? Универсальны были, разумеется, и ссылки на “болезнь века”, на несчастное время, делающее одарённых мужчин никчемными и неупотребимыми к делу ипохондриками. Белинские и добролюбовы здесь только позаимствовали формулы европейской литературной критики.
Считается само собой разумеющимся, что такой тип мужского персонажа — типичен для романтизма и им создан. И что один из важнейших ходов воспоследовавшего реализма — погружение этого “лишнего человека” в бытовую среду и создание психологических мотиваций его поведения. Повесть Тургенева, однако, позволяет увидеть эти шаблоны литературной эволюции в свете достаточно неожиданном. Конфликт двух соблазнителей, вторгающийся в “спор классицизма и романтизма”— т. е. рассечение одного штампа при помощи другого штампа — даёт нам возможность в обнажившихся зазорах нарративной цепи увидеть промельк совершенно неожиданных фигур литературной генеалогии. И прежде всего — точку, фокусировка на которой даёт возможность сделать предметом мысли эту дегенеративную меланхолию “лишнего человека”, со времён Гёте, Руссо и Константа свойственную определённому типу мужского персонажа.
2. Апатия
Итак, важнейшей чертой ведущего мужского персонажа европейской литературы первой трети 19 века — и том числе и главным признаком почти всех мужских персонажей Тургенева — является “вялость чувств”, невозможность целиком отдаться потоку захватывающих его страстей и вообще импульсам рождающейся в нём энергии. В ответ на (исходящие от женского протагониста) энергетические импульсы, на задаваемую женским протагонистом необходимость активного действия и выхода из дремотно-внутреннего состояния, мужской персонаж, классический для этой линии романтизма, отвечает чёрной меланхолией, ещё более глубоким и мощным погружением в “бездействие”. Не вообще бездействие — хотя русская литература и довела эту тенденцию до самых крайних и натуралистических пределов — но бездействие как невовлечённость в механизмы страсти. Персонаж этого рода принципиально внешен страстной части души, он не способен любить — и потому его любовь несёт проклятие любимой им девушке. Любовь его холодна, как сперма василиска. Состояние это подробно описано в исследованиях романтизма. Однако мне не удалось обнаружить серьёзных исследований, сопоставляющих состояние романтической невовлечённости и состояние либертинской холодной калькуляции сил соблазнения. На первый взгляд, сама аналогия достаточно произвольна: либертинский роман принадлежит “веку разума”, эпохе 18 века, с его духом калькуляции и таблиц, контроля разума над чувством, тогда как романтизм прославляет мистическое погружение в глубины духа, иррациональную игру чувств и некалькулируемость движений души, спонтанно склоняющейся к злу или к добру.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Когда в России приходит время решительных перемен, глобальных тектонических сдвигов исторического времени, всегда встает вопрос о природе города — и удельном весе городской цивилизации в русской истории. В этом вопросе собрано многое: и проблема свободы и самоуправления, и проблема принятия или непринятия «буржуазно — бюргерских» (то бишь городских, в русском представлении) ценностей, и проблема усмирения простирания неконтролируемых пространств евклидовой разметкой и перспективой, да и просто вопрос комфорта, который неприятно или приятно поражает всякого, переместившегося от разбитых улиц и кособоких домов родных палестин на аккуратные мощеные улицы и к опрятным домам европейских городов.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

Культура русского зарубежья начала XX века – особый феномен, порожденный исключительными историческими обстоятельствами и до сих пор недостаточно изученный. В частности, одна из частей его наследия – киномысль эмиграции – плохо знакома современному читателю из-за труднодоступности многих эмигрантских периодических изданий 1920-х годов. Сборник, составленный известным историком кино Рашитом Янгировым, призван заполнить лакуну и ввести это культурное явление в контекст актуальной гуманитарной науки. В книгу вошли публикации русских кинокритиков, писателей, актеров, философов, музы кантов и художников 1918-1930 годов с размышлениями о специфике киноискусства, его социальной роли и перспективах, о мировом, советском и эмигрантском кино.
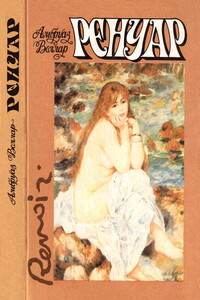
Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.
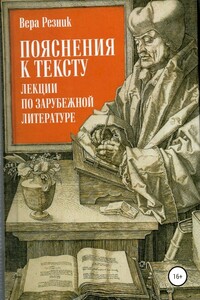
Эта книга воспроизводит курс лекций по истории зарубежной литературы, читавшийся автором на факультете «Истории мировой культуры» в Университете культуры и искусства. В нем автор старается в доступной, но без каких бы то ни было упрощений форме изложить разнообразному кругу учащихся сложные проблемы той культуры, которая по праву именуется элитарной. Приложение содержит лекцию о творчестве Стендаля и статьи, посвященные крупнейшим явлениям испаноязычной культуры. Книга адресована студентам высшей школы и широкому кругу читателей.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.
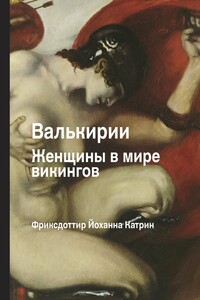
Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.