“Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева - [2]
Такая гипотеза имеет все права на существования. Сны Зинаиды, с лодками, девушками в белом, вакханками, прекрасными незнакомцами, ждущими у фонтана, королевами — всё это дешёвый расхожий антураж романтизма. Как и топологические фигуры, в которые облекает подросток свои переживания (например, он караулит своего соперника у руин с кинжалом в руке, и тот появляется, закутанный в плащ и широкополую шляпу). В повести действует поэт, декламирующий отрывки из своей поэмы “Убийца” и отчасти напоминающий нам Ленского. При обрисовке этого персонажа Тургенев даже специально оговаривает, чтобы не осталось сомнений, что дело происходит в самый разгар романтизма, и даже заставляет этого поэта вести спор с другими обожателями Зинаиды о романтизме и классицизме. Эта романтическая линия, собранная вокруг взгляда и переживаний подростка — тщательно прописана Тургеневым. Но исчерпывается ли ею содержание повести? Крах первой любви по канонам расхожего русского романтизма — это прежде всего внутренняя катастрофа героя, не сумевшего подняться на высоту собственного чувства, оказавшегося ниже предмета своей любви. Или трагический треугольник, с дуэлями, внезапными разлуками и т. п. Тема треугольника присутствует в повести, хотя и в несколько необычном для романтизма виде — треугольник с собственным отцом. Отец, рисуемый как денди, как блестящий светский человек, статный и красивый, напоминает в русской литературе фигуры Онегина и (более) Печорина. Его сентенции (вроде “сам бери, что можешь, а в руки не давайся, самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни”, “умей хотеть — и будешь свободным”) — весьма напоминают сентенции Печорина, т. е. вписываются в то, что принято именовать “байронизмом”. Стало быть, ещё один атрибут романтической топологии?
Однако попробуем собрать периферийные знаки повествования, остраняющие стандартное романтическое повествование. Уже в первой сцене официального знакомства подростка с Зинаидой нам дана сцена с котёнком, принесённым ей одним из её поклонников. Зинаида, как и положено романтической барышне, восторгается некоторое время этим котёнком, но затем вдруг равнодушно приказывает: “унесите его”. Дальше — больше. Среди её воздыхателей имеется доктор. Любимое развлечение Зинаиды — загонять ему в пальцы булавки и с наслаждением смотреть на реакции испытуемого, прямо ему в зрачки. Да и с подростком Зинаида ведёт себя несколько странно для романтической барышни: то приказывает спрыгнуть ему с высокой стены (так, что он теряет сознание), то рвёт ему волосы на голове с явным наслаждением… Да и знаменитая сцена с поцелуем рубца от кнута — как-то не вяжется с образом романтической девушки. “Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил…” — этот женский байронизм, сопровождаемый знаками жестокости, разбросанными повсеместно при описаниях Зинаиды, этакого “печорина в юбке”, несколько необычен для русского “романтизма”.
Второй, фоновый слой повести — это как раз “падение” Зинаиды, соблазняемой на периферии повествования отцом подростка. Она в отце рассказчика как раз встречает того, кто “может сломить”. Это падение дано нам косвенно, как знаки, периферийные для повествования о переживаниях собственно подростка, но собираемые без труда читателем из второстепенных деталей разговоров, наблюдений рассказчика и его отношений с Зинаидой, которая переносит своё слабеющее сопротивление с отца на сына и мстит ему за потерю воли жестами жестокости, легко переходящими в жесты любви (которые подросток, разумеется, принимает на свой счёт). Зинаида “полюбила”, её воле была противопоставлена более сильная воля — и значит — это её первая любовь. Итак, первая любовь нестандартного для русской литературы женского персонажа — таков скрытый сюжет повести?
Отец рассказчика женился на его матери не по любви, а из-за денег, жена старше его на 10 лет, и он обращается с ней крайне холодно. “Ему было не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне” (с.30). “Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить — и жил”(с.31). Скучающее соблазнение — дон-жуановский образ жизни — штамп ко времени написания “Первой любви” вполне избитый и даже несколько архаичный. Однако, влюбив в себя Зинаиду, в определённый момент отец теряет своё состояние скучающего Дон Жуана. В той самой знаменитой сцене, где он ударяет Зинаиду плёткой по руке, а она целует рубец, продолжение несколько неожиданное: отец бросает свою плётку, вбегает в дом и обнимает Зинаиду. Плётка — знак его непобедимого донжуанства, и не случайно потом на провокационный вопрос подглядевшего сцену сына он заявляет, что хлыст он не уронил, а бросил (с.71). Не очень удивительно, что чуть позже “он ходил просить о чём-то матушку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец!” (с.72) (немыслимое для него ранее, как для скучающего Дон Жуана, денди) — по всей видимости, о деньгах для забеременевшей любовницы. Закономерна в этой эволюции последовавшая вскоре смерть отца и его слова-завещание сыну: “сын мой, бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы…”. Отец испытал любовь, впервые в жизни, ибо Дон-Жуан не может влюбиться, для него это означает катастрофу, утрату всех жизненных сил — которая и постигла отца. Так что же, скрытый фон этой повести — первая любовь отца рассказчика?

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Когда в России приходит время решительных перемен, глобальных тектонических сдвигов исторического времени, всегда встает вопрос о природе города — и удельном весе городской цивилизации в русской истории. В этом вопросе собрано многое: и проблема свободы и самоуправления, и проблема принятия или непринятия «буржуазно — бюргерских» (то бишь городских, в русском представлении) ценностей, и проблема усмирения простирания неконтролируемых пространств евклидовой разметкой и перспективой, да и просто вопрос комфорта, который неприятно или приятно поражает всякого, переместившегося от разбитых улиц и кособоких домов родных палестин на аккуратные мощеные улицы и к опрятным домам европейских городов.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

Культура русского зарубежья начала XX века – особый феномен, порожденный исключительными историческими обстоятельствами и до сих пор недостаточно изученный. В частности, одна из частей его наследия – киномысль эмиграции – плохо знакома современному читателю из-за труднодоступности многих эмигрантских периодических изданий 1920-х годов. Сборник, составленный известным историком кино Рашитом Янгировым, призван заполнить лакуну и ввести это культурное явление в контекст актуальной гуманитарной науки. В книгу вошли публикации русских кинокритиков, писателей, актеров, философов, музы кантов и художников 1918-1930 годов с размышлениями о специфике киноискусства, его социальной роли и перспективах, о мировом, советском и эмигрантском кино.
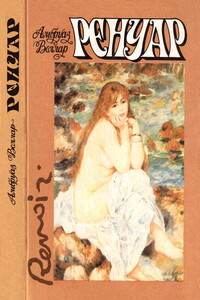
Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.
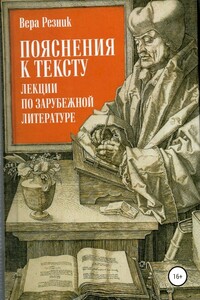
Эта книга воспроизводит курс лекций по истории зарубежной литературы, читавшийся автором на факультете «Истории мировой культуры» в Университете культуры и искусства. В нем автор старается в доступной, но без каких бы то ни было упрощений форме изложить разнообразному кругу учащихся сложные проблемы той культуры, которая по праву именуется элитарной. Приложение содержит лекцию о творчестве Стендаля и статьи, посвященные крупнейшим явлениям испаноязычной культуры. Книга адресована студентам высшей школы и широкому кругу читателей.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.
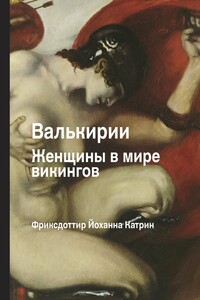
Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.