Переписка. 1931–1970 - [5]
Лукач был не фантазер, не создатель умственных схем, а прежде всего реально и трезво мыслящий человек – черта, свойственная тем, у кого слова не расходятся с делами. К 1930-м гг. многим стало ясно, что революция зашла в тупик, что совершена ошибка. По свидетельству Лифшица, на дискуссии (1930 г.) в Институте Маркса и Энгельса под председательством Д. Рязанова обсуждался вопрос об ошибке Маркса, допущенной им в революции 1848 г., а имелась в виду революция Октябрьская>28. Однако если перед нами не временный сбой в ходе революции, а ее катастрофа, то либо вожди не доросли до высоты масс, либо сама эта революция – ошибочная, не имеющая исторического оправдания. Ибо истина истории есть тождество субъекта и объекта, а тут, оказывается, между ними опять если не пропасть, то щель.
Лукач снова обращается к исследованию трагической ситуации и выясняет, что для Маркса и Энгельса трагедия не в том, что вожди оказались ниже исторической задачи (так думал Лассаль, автор трагедии «Франц фон Зикинген») – такое бывает, и очень часто, но это не трагедия, а просто ошибка. Трагедия тогда, когда ошибка неизбежна именно для тех и прежде всего для тех, кто прав в самом глубоком, всемирно-историческом смысле слова. Ибо в истории бывают ситуации, когда совершение действия необходимо для продвижения истории и совершают это действие те, кто правильнее всех понимает эту необходимость истории. Но вместе с тем политики, владеющие истиной ситуации, обречены на поражение, ибо полная победа их-впереди, а сегодня они должны погибнуть, ситуация не позволяет им победить, однако, погибая в борьбе, они сдвигают с мертвой точки мировую историю. Такова, по мнению классиков марксизма, трагическая коллизия Томаса Мюнцера. Исследование Лукача на эту тему (оно было опубликовано в 1932 г.>29) – его большое достижение, по мнению Лифшица.
Однако из такого понимания трагедии следовало сделать мировоззренческие, философские выводы. Если не только в предшествующей истории, но и в борьбе пролетариата возможна – и даже неизбежна – щель между субъектом и объектом как отражение щели в самой действительности, в объективном мире, то каков же тогда критерий истины? Или истиной будет отражение неистинной, искривленной действительности (таков вывод неомарксизма, Франкфуртской школы, А. Хаузера и т. н. «вульгарной социологии» в СССР), и истиной мы должны признать правдивое отражение объективной лжи, кривизны реальности, или мы возвращаемся к агностицизму Канта. Кажется, другого выхода нет?
Но лучше Кант, полагает Лифшиц, чем неокантианство, неомарксизм и вульгарная социология. Ибо агностицизм Канта вырастал как раз из сильной стороны его концепции деятельности – понимания того, что не мы создали природу и, следовательно, природа не может быть продуктом нашей опредмечивающей деятельности. Лукач слишком легко решил эту проблему в «Истории и классовом сознании», объявив природу общественной категорией.
Фихте, Шеллинг и Гегель решили проблему Канта гениально просто: сама природа есть не что иное, как деятельность субъекта, но не эмпирического, а трансцендентального (абсолютного субъекта Фихте и Шеллинга, абсолютной идеи и мирового духа Гегеля). Автор «Истории и классового сознания» заменил абсолютного субъекта коллективным, пролетариатом, который творит осознанно историю и тем отличается от действующего эмпирического субъекта предшествующей истории, который не понимает, что он делает, и поэтому не может быть тождественным объекту. Но как быть с объективным заблуждением не прошлого, а настоящего, не буржуазных мыслителей и практиков, а Маркса и Ленина, заблуждением, в котором, однако, – высшая правда времени? Если и они заблуждались, то где объективная точка отсчета, критерий истины, который молодой Лукач находил в тождестве субъекта и объекта?
В дискуссии 1930 г. под председательством Д. Рязанова Лифшиц выступил с концепцией истории, которую Д. Рязанов назвал «эстетической»>30, поскольку она, писал по этому поводу Лифшиц в статье «Ветер истории», «делаеттрансцендентальную точку зрения «обыкновенной», те. наглядно связывает наш обычный мир с бесконечностью»>31. Позволю себе проиллюстрировать суть этой точки зрения на примере полемики Лифшица с Лосевым, и не только с ним, но и с Гегелем в толковании одного места у Гомера. Разгневанный Ахилл хочет убить Агамемнона, он хватается за меч, но ему является Афина, успокаивает его и заставляет вложить меч в ножны. Гегель, а за ним и Лосев, рационалистически толкуют этот момент: Афина – это отчужденный от Ахилла образ его собственной воли, его истинного сознания, которое в иллюзорном образе Афины заставляет погасить чувственный аффект. Другими словами, субъект тут работает с самим собой, более интеллигибельная его сторона, трансцендентальная, подчиняет себе эмпирическую.
Лифшиц иначе толкует эту ситуацию. «Собственно, – пишет он на полях книги Лосева, – это диалектика и очень умно. Боги – остаток глубокого прошлого, но и способ понимания того или выражения того, что выходит за пределы рассудочной обыденности»>32;«… здесь важно то, что поворот (речь идет о смирении гнева Ахилла Афиной. –
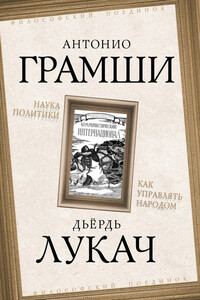
Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены" #1(69), 2004 г., сс.91–97Перевод с немецкого: И.Болдырев, 2003 Перевод выполнен по изданию:G. Lukacs. Von der Verantwortung der Intellektuellen //Schiksalswende. Beitrage zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau Verlag, Berlin, 1956. (ss. 238–245).

Предлагаем вниманию читателей курс лекций, прочитанный Михаилом Александровичем Лифшицем (1905–1983) в конце 1930-х – самом начале 1940-х годов в Московском институте философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ, сокращённо ИФЛИ). Курс назывался «Введение в марксистско-ленинскую теорию искусства». ИФЛИ, «красный лицей», являлся в ту эпоху главным гуманитарным вузом страны. Профессор Лифшиц занимал в нём должность доцента кафедры искусствознания и заведовал кафедрой теории и истории искусства.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.

Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.

Парадоксальному, яркому, провокационному русскому и советскому философу Константину Сотонину не повезло быть узнанным и оцененным в XX веке, его книги выходили ничтожными тиражами, его арестовывали и судили, и даже точная дата его смерти неизвестна. И тем интереснее и важнее современному читателю открыть для себя необыкновенно свежо и весело написанные работы Сотонина. Работая в 1920-е гг. в Казани над идеями «философской клиники» и Научной организации труда, знаток античности Константин Сотонин сконструировал непривычный образ «отца всех философов» Сократа, образ смеющегося философа и тонкого психолога, чья актуальность сможет раскрыться только в XXI веке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.