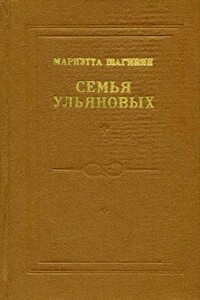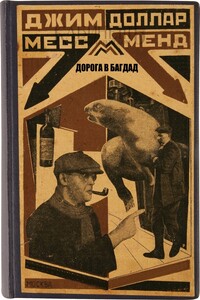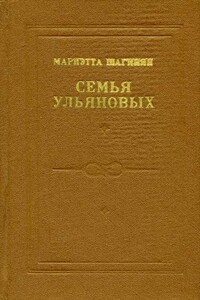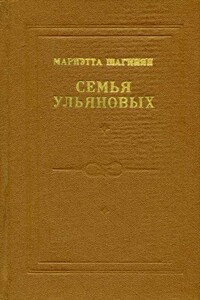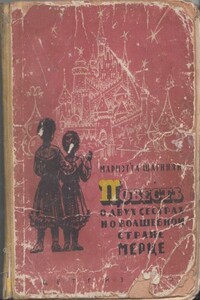«Торопись, Антанта! Близок день, когда взмоет наш дирижабль над Успенским собором! Если хочешь и ты пировать праздник всемирной культуры, то выложи напрямик: где твоя лепта?»
Выкладывали англичане охотно фунты стерлингов. Записывала приход Людмила Борисовна. Шли донскими бумажками фунты к поручику Жмынскому, а от него простыми записочками с обещанием денег достигали они знаменитых писателей Жарьвовсюкина и Плетушкина.
— Прижимист ты, Жмынский! Плати, брат, по уговору!
— Да кабы не я, черт, ты так и сидел бы в станице Хоперской. По-настоящему не я вам, а вы мне должны бы платить!
Кривят Плетушкин и Жарьвовсюкин юные губы. Чешут в затылке:
— Прохвост ты!
А молодая мисс Мэбль Эверест, рыжекудрая, в синей вуальке, журналистка «Бостонских известий», объезжавшая юг «когда-то великой России», щуря серые глазки направо-налево, записывала, не смущаясь, в походную книжку:
«Ненависть русских к авантюре германских шпионов, посланных из Берлина в Москву под видом большевиков, достигает внушительной формы. Все выдающиеся люди искусств и мысли, как, например, гуманист, поборник Толстого, писатель Плетушкин, открыто стоят за Деникина. Свергнуть красных при первой попытке поможет сам русский народ. Урожай был недурен. Запасы пшеницы у русских неисчерпаемы».
Глава двадцать третья
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ШКУРНАЯ
Перекрутились на карусели всадники-месяцы, погоняя лошадок. И снова остановились на осени. Знакомая сердцу стоянка!
Свесили, сплакивая дождевую слезу, свои ветки деревья, понурились на поперечных столбах телеграфные проволоки, в шесть часов вечера в окнах забрезжили зори «Осрама»,[19] наливаясь, как брюшко комариное кровью, густым электрическим соком.
Тянет в осенние дни на зори «Осрама». Вычищен у швейцара военного клуба мундир, а вешалка вся увешена фуражками и дождевыми макинтошами. Бойко встречает швейцар запоздалых гостей, обещая их платью сохранность без номерочка. Гости сморкаются, вытирая усы, влажные от дождя, и, пряча руку назад, в карман галифе, военной походкой, подрагивая в коленях, поднимаются по ковровым широким ступеням наверх, в освещенные клубные залы.
Сюда гостеприимно сзываются граждане, рекомендованные членами клуба. Из буфета пахнет телячьей котлеткой, анчоусами и подливкой, настоянной на кипятке в сковородках, где жарилось мясо, — французским поваром Полем. Поль нет-нет и выйдет из кухни, присматривая, как подают и все ли довольны.
Нарядные столики заняты. Дожидаясь, топчутся, блестя лакированными сапогами, офицеры в дверях, под яркими люстрами. Посасывают гнилыми зубами английские трубки. На столиках все как в довоенное время: севший закладывает за воротник угол крахмальной салфетки, оттопырившейся на нем, как манишка. В зеркалах по бокам он видит свое отражение. Прибор подогрет и греет холодные пальцы; вазочка слева многоэтажна, как гиацинт, на каждой площадке отмечена нужным пирожным: миндальным, песочным с клубникой, «наполеоном», легким, как пачка у балерины. В углу за разными баночками с горчицей, соей и перцем — бутылки бургундского и портер, заменяющий пиво.
Лакей уже вырос. Как каменное изваяние, стоит он, держа наготове листок, исписанный Полем. Здесь есть ужин из пяти блюд и блюда à la carte,[20] есть русская водка с закуской, есть шведский поднос à la fourchette[21] и блины в неурочное время.
— Я вам скажу, — наклоняется к севшему комендант полковник Авдеев, — этот Поль не имеет себе конкурентов. Возьмите навагу, — простая, грубая рыба на зимнее время. Навага, когда вам дают ее дома, непременно попахивает чем-то, я бы сказал, рыбожабристым, даже просасывать ее у головы и под жаброй противно; ковырнешь, где мясисто, и отодвинешь. А у Поля не то. У Поля, я доложу вам, навага затмит молодую стерлядку. Он мочит ее в молоке, отжимает, окутывает сухарем на сметане, жарит не на плите, а каким-то секретным манером — планшетка на переплете, и все это крутится вокруг очага, минуты две — и готово. Такую навагу, когда вам ее с лимончиком, головка в папиросной бумаге кудряшками, не то что скушать, поцеловать не откажешься. Аромат — уах! — мягкость, нежность, — бывало, в Славянском базаре, в Москве, не ел подобной форели!
Официант в продолжение речи — как каменное изваяние. И заказывают, посоветовавшись, два человека, военный и штатский, русскую водку с закуской, заливное, тетерку и пудинг.
Штатский, с крахмальной салфеткой, заткнутой за воротник, маленький, юркий, с томно-восточными глазками, ласков: он ожидает подряда. Военный, честный вояка, с усами, стоячими, как у пумы, отрыжки не прячет, салфетки не развернул, провансаль ножом подбирает. Он охотник поговорить за хорошею выпивкой.
— У меня этих самых катаров никогда никаких. Французская кухня — так давайте французскую. А нет, могу и по-нашему, по-военному, из походного вместе с солдатом. И, доложу вам, походные щи имеют особенное преимущество, если хлебать их с воображением. В котел вы опустите ложку и не знаете, что выйдет, — тут и этакая из требухи желтая пипочка, помидор, боб, кусок солонины, капустная шейка непроваренная, твердоватая, и много всякой приправы. Я солдат, как детей, баловал. Всякий раз из котла похлебаю, а они: «Радьстараться, вашблагородие», — жулики. Чувствуют! Да, тарелка не то, что котел. Тут вам фантазии нет, все на донышке. Кха!