Перелет - [2]
Я тоже старался не заразиться этими идеями. Разумеется, это не означало, что в душе я был коммунистом или симпатизировал коммунистам, ведь о социализме я тогда знал лишь то, что слышал от преподавателей академии. Прямо скажем, маловато. Правда, я обладал повышенной чувствительностью в отношении нерешенных социальных проблем нашего общества, ведь я хорошо помнил батраков Халаптаньи, голытьбу Вамошперчи, нищету крестьян-бедняков, ходивших на поденщину, видел их полное бесправие. Этого было вполне достаточно, чтобы в академии за мной закрепилась репутация «левого экстремиста», что в переводе на современный политический лексикон означало «левизну», характерную для правых социал-демократов.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что в хортистской Академии генерального штаба воспитывали социал-демократов?
— Конечно, нет. Но не забывай: эту же академию на год раньше меня закончили четыре замечательных человека: Дёрдь Палфи, Лайош Шойом, Кальман Реваи и Иштван Белезнаи. Причем Белезнаи был связистом и тоже учился в Хювёшвельдском военно-техническом училище на курс старше меня. Этих людей вскоре после освобождения произвели в генералы, они сыграли важную роль в создании венгерской Народной армии.
Разумеется, не такие люди определяли лицо академии. Я мог бы привести множество примеров самого противоположного свойства, в академии учились и подлецы-двурушники, эгоисты, думающие только о своем благополучии, занимающиеся самоубаюкиванием, духовно нищие люди. Но о них не стоит говорить…
— Бывал ли ты на фронте?
— Два раза. В 1941 году я служил в штабе 2-й ньиредьхазской кавалерийской бригады: на третью неделю после объявления Венгрией войны Советскому Союзу эта кавалерийская часть перешла через Татарский перевал, то есть вступила на советскую территорию.
— Какие чувства тогда владели тобой?
— Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разъяснить общую военную и политическую ситуацию тех лет. Положение на международной арене в те годы определяли следующие факторы. По второму Венскому арбитражу Гитлер передал Венгрии часть Трансильвании. Наша страна смогла присоединить эти земли без военных действий. Остальная часть Румынии в то время практически уже была оккупирована немцами. Правда, тогда это было сформулировано так: «немецкие учебные дивизии прошли через территорию Венгрии в Румынию к местам своего постоянного размещения». Собственно говоря, основной задачей этих «учебных дивизий» была подготовка румынской армии к нападению на Советский Союз: во время войны с СССР румыны находились на южном фланге фронта, протянувшегося от Балтики до Черного моря. Генерал Антонеску[6] и его правительство стали марионетками фашистской Германии. В канун пасхи 1941 года Гитлер напал на Югославию и создал у нашей южной границы «независимое» государство — Хорватию. Нашел он и подходящего исполнителя на роль правителя этой страны — Анте Павелича…
ОТЕЦ ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ: — Командиром бригады, в которой я служил, был генерал-майор Ваттаи. По-моему, человек он был недалекий, не пытавшийся заглянуть в суть происходящего. Во всей кампании, как это позднее выяснилось, он видел лишь возможность снискать себе лавры полководца. Уж если кто и мечтал о «дожде орденов», как когда-то сказал Вильгельм II, так это наш Ваттаи. Я еще не раз вернусь к этому человеку, поэтому хорошенько запомни его имя…
— Извини, но, прежде чем ты продолжишь свой рассказ, позволь мне зачитать отрывок из работы известного историка Гезы Переша, который любезно прислал мне свою рукопись для ознакомления…
ИЗ РАБОТЫ ГЕЗЫ ПЕРЕША: «В жизни офицерства политика занимала необычное место. В силе оставался пресловутый concensus:[7] несправедливость, допущенная в Трианоне,[8] должна быть исправлена. Вне всякого сомнения, образ мышления офицерства носил правый, консервативный характер. Это было следствием формирования в те годы в Венгрии националистических взглядов, а не какого-то целенаправленного воспитательного процесса. Когда же в училище или академии пытались организовать такого рода «подготовку», мы относились к ней с нескрываемым пренебрежением, откровенно скучая на лекциях. Я что-то не припомню, чтобы мы хоть раз «воодушевились» на них, и неудивительно: вместо конкретного анализа проблем на нас обрушивался поток трескучих фраз и общеизвестных истин. Таким образом, политически мы были совершенно безграмотны, однако постепенно нас охватывало смятение: сквозь розоватую пелену красивых фраз все отчетливее проступала зловещая кровавая действительность. Зная условия, в которых у себя дома жили наши солдаты, мы волей-неволей вынуждены были констатировать: гораздо более важной по сравнению с ревизией Трианонского мира была проблема решения социальных задач внутри нашего общества. А вскоре мы убедились, что, стремясь к ревизии, оказались втянутыми в такую страшную и несправедливую войну, которая грозила полным уничтожением нации. После известного обращения регента[9] к стране и перехода власти в руки нилашистов мы совершенно отчетливо увидели, что Венгрия стоит на грани катастрофы, однако превратно понимаемые нормы офицерской этики и дух кастовости мешали нам встать на путь активных действий».
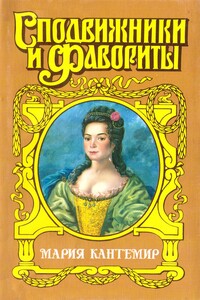
Семнадцатилетняя красавица Мария, дочь молдавского господаря Дмитрия Кантемира, была последней любовью стареющего Петра Великого. Император мечтал о наследнике престола и если бы не загадочная смерть новорождённого младенца — сына Марии и Петра — история России могла пойти совсем иным путём...Новый роман современной писательницы 3. Чирковой рассказывает драматическую историю последней любви российского императора Петра Великого. В центре внимания автора — жизнь и судьба красавицы Марии Кантемир (1700—1757), дочери молдавского господаря Дмитрия Кантемира.

Роман «Держава» повествует об историческом периоде развития России со времени восшествия на престол Николая Второго осенью 1894 года и до 1905 года. В книге проходит ряд как реальных деятелей эпохи так и вымышленных героев. Показана жизнь дворянской семьи Рубановых, и в частности младшей её ветви — двух братьев: Акима и Глеба. Их учёба в гимназии и военном училище. Война и любовь. Рядом со старшим из братьев, Акимом, переплетаются две женские судьбы: Натали и Ольги. Но в жизни почему–то получается, что любим одну, а остаёмся с другой.
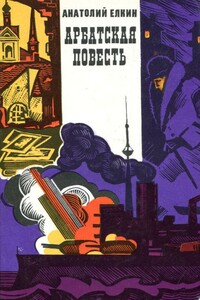
Анатолий Сергеевич Елкин (1929—1975) известен советским читателям по увлекательным книгам «Айсберги над нами», «Атомные уходят по тревоге», «Одна тропка из тысячи», «Ярослав Галан» и др.Над «Арбатской повестью» писатель работал много лет и завершил ее незадолго до своей безвременной смерти.Центральная тема повести писателя Анатолия Елкина — взрыв линейного корабля «Императрица Мария» в Севастополе в 1916 году. Это событие было окутано тайной, в которую пытались проникнуть многие годы. Настоящая книга — одна из попыток разгадать эту тайну.

В клубе работников просвещения Ахмед должен был сделать доклад о начале зарождения цивилизации. Он прочел большое количество книг, взял необходимые выдержки.Помимо того, ему необходимо было ознакомиться и с трудами, написанными по истории цивилизации, с фольклором, историей нравов и обычаев, и с многими путешествиями западных и восточных авторов.Просиживая долгие часы в Ленинской, фундаментальной Университетской библиотеках и библиотеке имени Сабира, Ахмед досконально изучал вопрос.Как-то раз одна из взятых в читальном зале книг приковала к себе его внимание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
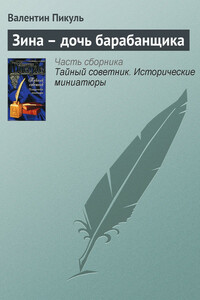
«…Если гравер делает чей-либо портрет, размещая на чистых полях гравюры посторонние изображения, такие лаконичные вставки называются «заметками». В 1878 году наш знаменитый гравер Иван Пожалостин резал на стали портрет поэта Некрасова (по оригиналу Крамского, со скрещенными на груди руками), а в «заметках» он разместил образы Белинского и… Зины; первого уже давно не было на свете, а второй еще предстояло жить да жить.Не дай-то Бог вам, читатель, такой жизни…».