Пепел и снег - [3]
У Иосифа был сын Михаил, названный так в честь архангела. Этот Михаил служил в войсках польского короля Августа II, саксонского курфюрста, и сражался против шведов в Северной войне. Но оставил он после себя не очень заметный след: ничего не разрушил на чужой войне, ничего не возвёл, не созидал на мирных поприщах. Неяркая личность. Гонялся за славой, да не поймал, искал богатства — в руки не далось, ибо любит богатство усердных и смекалистых; великого ума не нажил, потому что от учения очень скоро утомлялся, был неусидчив и рассеян и едва брал писчее перо, как сразу же ощущал зуд в ладонях и дрожь в пальцах. Оттого писать не любил. А читать не приохотился. Что где случаем познал, тем и довольствовался. Был в жизни как пёрышко на ветру.
А вот его сыну Петру выпало счастье великое — он нигде не воевал. Пётр много строил в поместье. При нём возвели главное здание усадьбы с портиком, при нём разбили парки и посадили сады. Но знаменит Пётр был другим: он сам писал картины, в основном виды природы, и сам писал музыку. Пользовались известностью несколько его сочинений для виолончели, скрипки, флейты и рожка — во многих домах водились альбомы с переписанными от руки нотами модных опусов Петра Мантуса, и редкий сноб не щегольнул в обществе каким-нибудь мудреным замечанием по поводу этих опусов. По меньшей мере, три его менуэта и две мазурки звучали в каждом салоне тогдашних Польши и Литвы, и добропорядочные барышни с розовощёкими офицерами, и гризетки с приказчиками, и отпрыски благородных фамилий, и дети влиятельных магнатов, и очень важные особы, едва ли не августейшие, отплясывали на вечеринках и балах под музыку мелкопоместного белорусского дворянина, прадед которого, подобно младенцу Иисусу, лёживал спелёнатый в яслях возле коз и овец. Вообще этот Пётр был возвышенной натурой: сколь тонко чувствовал, столь тонко и изъяснялся, понимал поэзию, любил женщин, не обижал своих крестьян, любовался пейзажами и курил дорогой табак.
Дед нашего героя, Антон Петрович, не отличался сколько-нибудь заметными художественными способностями. Он не был человеком утончённым, не был ценителем редкостей и красоты. Совершенное и гармоничное понимал разумом, но сердцем к этому понятому не прикипал. Он чурался доморощенных «кабинетных мыслителей», к которым относил и своего отца, нередко посмеивался над ними, однако когда ему случалось оказаться в их обществе, больше отмалчивался, потому что на их фоне умом не блистал. У Антона Петровича была страсть: верховая езда, охота и собаки. Женщин не терпел, ибо почитал их за создания с изъяном — по причине их неспособности к верховой езде и к охотам и так как не наблюдал с их стороны особой любви к собакам. Однако женился благополучно и в первый же год супружеской жизни родил сына Модеста. Ко времени первого раздела Польши между Австрией, Пруссией и Россией Антону Петровичу исполнилось двадцать девять лет. Полоцк и Полоцкое воеводство в числе многих других восточнобелорусских земель отошли к России, а некоторое время спустя Полоцк стал губернским городом. Антон Петрович в свои тридцать лет принял участие в русско-турецкой войне[5]. На войну он пошёл с удовольствием, так как представлял её себе чем-то вроде большой охоты. Но провоевав два года и закончив войну в Валахии, вернулся в поместье совсем другим человеком. Молчаливый и замкнутый, он полгода отлёживался в постели — долечивал полученные раны. И был далёк от мысли высказывать восторги по поводу «большой охоты».
Модесту Антоновичу также довелось воевать против турок — в 1787—1791 годах. Начав службу в чине прапорщика в возрасте девятнадцати лет, участвовал во многих баталиях, как малозначимых и малоизвестных, так и в крупных, под командованием самого Суворова: при Фокшанах, например, в июле 1789 года, при Рымнике в сентябре 1789 года, где был ранен в бедро турецкой пулей; за храбрость и смекалку, проявленные в этом бою, молодой прапорщик удостоился ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. В знаменитом штурме Измаила Модест Антонович участия не принимал по причине второго ранения — осколком гранаты в шею. Но зато он имел прекрасную возможность наблюдать штурм в зрительную трубу из-за реки с позиций полевой артиллерии. По окончании войны Модест Антонович вышел в отставку — в чине капитана и в возрасте двадцати трёх лет. С войны он привёз несколько рецептов турецкой кухни, пристрастие к кофе и молодую красавицу жену — дочку генерала Бекасова, и, изведавший воинской славы и супружеской любви, являл собою образец счастья...
Модест Антонович был человек увлекающийся. И не умел долго оставаться праздным. Надо заметить, ему всегда казалось, что он способен к наукам, особенно к естественным. И он следил за их развитием, насколько это было возможно в такой глуши, как Полоцкая губерния (если угодно, слушал оперу, стоя у театра). Наконец, вдохновлённый открытиями Левенгука и окрылённый последними идеями Карла Линнея и Жюссье, Модест Антонович сам занялся научными изысканиями. Он вооружился микроскопом, запасся картонными папками, альбомами, приспособлениями для изготовления чучел, сачками и пустился в поля и леса испытывать натуру. С величайшей старательностью он собирал гербарий, из его рук выходили отличные чучела, он составлял описания растений и животных, коллекционировал бабочек, делал зарисовки в альбомах; он соотносил флору и фауну родных мест с классификацией Линнея... Модесту Антоновичу думалось, что он занимается наукой, но на самом деле он попросту нескучно проводил время. Расширение собственного кругозора, самообразование он принимал за серьёзную научную работу, — должно быть, здесь сказывался его провинциализм.
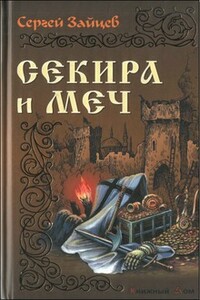
Герой романа, человек чести, в силу сложившихся обстоятельств гоним обществом и вынужден скрываться в лесах. Он единственный, кто имеет достаточно мужества и сил отплатить князю и его людям за то зло, что они совершили. Пройдет время, и герой-русич волей судьбы станет участником первого крестового похода…
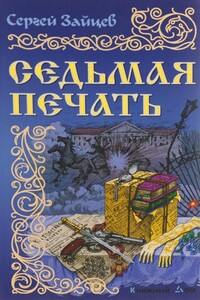
Роман переносит читателя в Петербург второй половины XIX столетия и погружает в водоворот сложных событий, которые и по сей день ещё не получили однозначной оценки историков. В России один за другим проходят кровавые террористические акты. Лучшие силы из императорского окружения брошены на борьбу с непримиримым «внутренним врагом»...
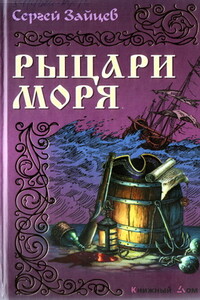
Молодой боярин не побоялся сказать правду в глаза самому Иоанну Грозному. Суд скор - герой в Соловках. После двух лет заточения ему удается бежать на Мурман; он становится капером - белым рыцарем моря…
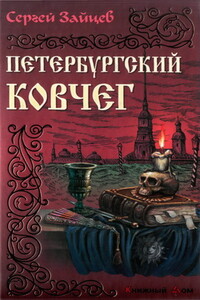
Действие романа развивается в 1824 г. Дворянин Аполлон Романов, приехав в Петербург из провинции, снимает комнату у молодой вдовы Милодоры, о которой ходят в свете нелестные слухи. Что-то непонятное и настораживающее творится в ее доме - какие-то тайные сборища по ночам... А далее героя романа ожидают любовь и патриотизм, мистика и предсказания, казематы Петропавловской крепости и ужас наводнения...
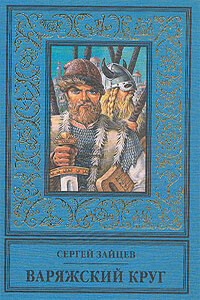
Новый исторический роман Сергея Зайцева уводит читателя в глубокое средневековье – в XII век, в годы правления киевского князя Владимира Мономаха. Автор в увлекательной форме повествует о приключениях и испытаниях, выпавших на долю его юного героя. Это настоящая одиссея, полная опасностей, неожиданностей, потерь, баталий, подвигов И нежной любви. Это битва с волками в ночной степи, это невольничьи цепи, это рэкетиры на средневековых константинопольских рынках. «Варяжский круг» – остросюжетное повествование, построенное на богатом историческом материале.
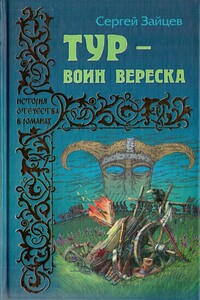
В романе рассказывается о нескольких эпизодах великой Северной войны, которая ещё известна как Двадцатилетняя война и победа в которой сделала Россию сильнейшей из держав. Ни шведские военачальники, ни сам король Карл XII не могли даже представить, что события, имевшие место в восточных землях Великого княжества Литовского, то есть в землях Белой Руси, станут началом крушения шведской империи. «Летучий отряд» Петра I наносит весьма серьёзное поражение шведам. Таинственный Тур, будто рыцарь, пришедший из давних времён, встаёт на защиту своего края...
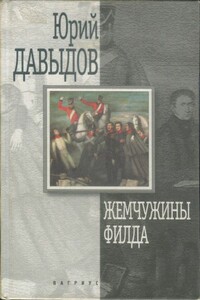
В послеблокадном Ленинграде Юрий Давыдов, тогда лейтенант, отыскал забытую могилу лицейского друга Пушкина, адмирала Федора Матюшкина. И написал о нем книжку. Так началась работа писателя в историческом жанре. В этой книге представлены его сочинения последних лет и, как всегда, документ, тщательные архивные разыскания — лишь начало, далее — литература: оригинальная трактовка поведения известного исторического лица (граф Бенкендорф в «Синих тюльпанах»); событие, увиденное в необычном ракурсе, — казнь декабристов глазами исполнителей, офицера и палача («Дорога на Голодай»); судьбы двух узников — декабриста, поэта Кюхельбекера и вождя иудеев, тоже поэта, персонажа из «Ветхого Завета» («Зоровавель»)…
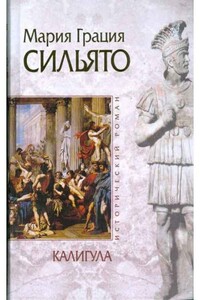
Одна из самых загадочных личностей в мировой истории — римский император Гай Цезарь Германии по прозвищу Калигула. Кто он — безумец или хитрец, тиран или жертва, самозванец или единственный законный наследник великого Августа? Мальчик, родившийся в военном лагере, рано осиротел и возмужал в неволе. Все его близкие и родные были убиты по приказу императора Тиберия. Когда же он сам стал императором, он познал интриги и коварство сенаторов, предательство и жадность преторианцев, непонимание народа. Утешением молодого императора остаются лишь любовь и мечты…
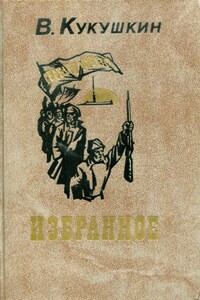
В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».
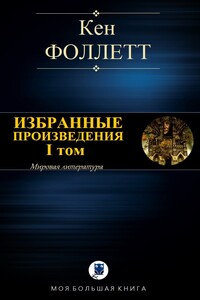
Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.
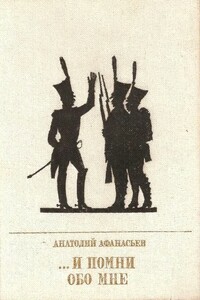
Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.
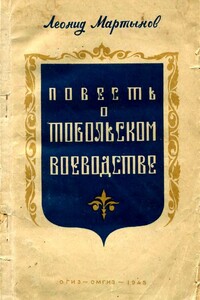
Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.
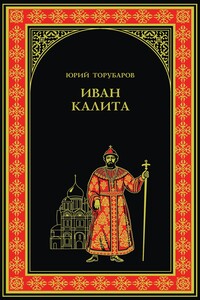
Иван Данилович Калита (1288–1340) – второй сын московского князя Даниила Александровича. Прозвище «Калита» получил за свое богатство (калита – старинное русское название денежной сумки, носимой на поясе). Иван I усилил московско-ордынское влияние на ряд земель севера Руси (Тверь, Псков, Новгород и др.), некоторые историки называют его первым «собирателем русских земель», но!.. Есть и другая версия событий, связанных с правлением Ивана Калиты и подтвержденных рядом исторических источников.Об этих удивительных, порой жестоких и неоднозначных событиях рассказывает новый роман известного писателя Юрия Торубарова.
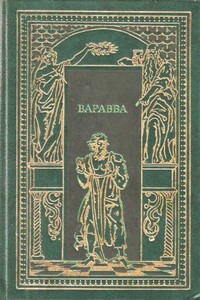
Книга посвящена главному событию всемирной истории — пришествию Иисуса Христа, возникновению христианства, гонениям на первых учеников Спасителя.Перенося читателя к началу нашей эры, произведения Т. Гедберга, М. Корелли и Ф. Фаррара показывают Римскую империю и Иудею, в недрах которых зарождалось новое учение, изменившее судьбы мира.
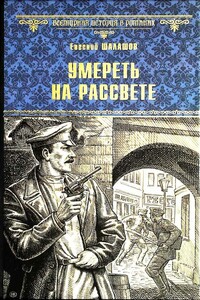
1920-е годы, начало НЭПа. В родное село, расположенное недалеко от Череповца, возвращается Иван Николаев — человек с богатой биографией. Успел он побыть и офицером русской армии во время войны с германцами, и красным командиром в Гражданскую, и послужить в транспортной Чека. Давно он не появлялся дома, но даже не представлял, насколько всё на селе изменилось. Люди живут в нищете, гонят самогон из гнилой картошки, прячут трофейное оружие, оставшееся после двух войн, а в редкие часы досуга ругают советскую власть, которая только и умеет, что закрывать церкви и переименовывать улицы.
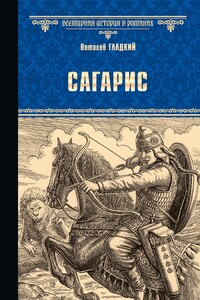
Древний Рим славился разнообразными зрелищами. «Хлеба и зрелищ!» — таков лозунг римских граждан, как плебеев, так и аристократов, а одним из главных развлечений стали схватки гладиаторов. Смерть была возведена в ранг высокого искусства; кровь, щедро орошавшая арену, служила острой приправой для тусклой обыденности. Именно на этой арене дева-воительница по имени Сагарис, выросшая в причерноморской степи и оказавшаяся в плену, вынуждена была сражаться наравне с мужчинами-гладиаторами. В сложной судьбе Сагарис тесно переплелись бои с римскими легионерами, рабство, восстание рабов, предательство, интриги, коварство и, наконец, любовь. Эту книгу дополняет другой роман Виталия Гладкого — «Путь к трону», где судьба главного героя, скифа по имени Савмак, тоже связана с ареной, но не гладиаторской, а с ареной гипподрома.