Пепел и снег - [2]
Глава 1
Родословная нашего героя, Мантуса Александра Модестовича, дворянина, с всегдашней гордостью возводилась (а может, низводилась) к простому крестьянину, сермяжному мужику из деревни Русавьи близ Полоцка. Жил тот крестьянин за полтора века до описываемых событий, то есть во второй половине XVII столетия, и отделяло его от нашего героя ни много ни мало — пять поколений. Пашенку пахал — лоб от пота не просыхал, маленько портняжил, маленько плотничал, маленько тачал сапоги, да сам сапог не нашивал, не по карману было и не по ноге — на ножищи-то его кривые, мозолистые ничто, кроме лаптей, не лезло. Худо-бедно жил: и с крапивой, и с лебедой; раз в году нюхал пироги — словом, как все; Бога боялся, на господ не роптал (а их немало было и из царства, и из королевства, да каждый с придурью), и в дождь, и в вёдро всё в земельку смотрел, повздыхивал... Двор этого далёкого предка стоял возле самой Двины — так что, бывало, при сильных разливах хозяину доводилось ступать с порога прямо в лодку. Близость дома к реке сыграла впоследствии немалую роль, когда пришло лихое время.
Семейное предание гласит, что имя этого крестьянина было Адам, а дворянский чин он получил во время правления польского короля Яна Казимира за некую услугу войскам Речи Посполитой в войне против России[2]. Что это была за услуга, предполагали разное. Родовая хроника, начатая ещё сыном того Адама, открывалась следующей записью: «Отец мой умел заглянуть наперёд — людям помогал, за него и весь свет стоял. В поле скажет словцо, а ему от дальнего леса аукается. Пожертвовал отец малым, чтобы спасти большое, и обрёл наибольшее, ибо пан Потоцкий[3] любил доводить начатое до конца». Для несведущих последняя фраза достаточно замысловатая; о чём речь — с наскоку не понять. Однако кое-что проясняет легенда. Пусть и сомнительное свидетельство, но когда иных свидетельств нет, почему бы не обратиться к ней? Легенда — маленький родник, но далеко окрест о роднике знают и с удовольствием из него пьют...
Рассказывается в легенде, что однажды зажали московские люди в излучине реки большой польский отряд, и выбор у панов остался невелик — тонуть в реке или бросать оружие. Искали переправы: тут сунутся в воду, там... Всадники с факелами закружили по Русавьям, грозя поджечь дворы. Мужикам кололи лица саблями, спрашивали про мосты и броды. Мужики же кланялись, Христом-Богом клялись, что известные мосты давно уж сгорели и что никаких бродов поблизости нет. Не верили паны, становились всё злее; дело могло закончиться кровавой расправой. Предводительствовал же в отряде какой-то вельможа — нарядный, напудренный — по виду не военный. И распоряжался-то не выходя из кареты. В отличие от своих подначальных, вельможа не казался жестоким. И хотя мягкость в речах и сочувствие в глазах его были явно напускными, ибо при всей видимой доброжелательности он не мешал мучить мужиков, — он казался человеком, с которым можно договориться. К этому вельможе и подошёл Адам и, указав на свой дом у реки, предложил построить из него плот и так уйти из западни. Понятно, что жертвовал Адам своим домом вовсе не из подобострастия, а из желания поскорее спровадить панов на левый берег Двины. Но вельможа, надо думать, всё понял по-своему. Вельможе понравилось это предложение, и он похвалил услужливого простолюдина, сказав по-литовски: «Мантус!»[4]. Не мешкая, и мужики, и паны принялись за дело, и к утру два плота были готовы. Надо сказать, что вельможа (возможно, это был сам Потоцкий) оценил поступок простолюдина весьма высоко: радеющий за народ достоин права повелевать. Он был, по-видимому, совсем неглупый человек и любил доводить дело до конца: когда война закончилась и белорусские земли остались во власти Речи Посполитой, он сумел так повлиять на правительство и на самого Яна Казимира, что крестьянин, едва умевший написать своё имя, получил дворянский чин, а также саблю с серебряной рукоятью — личный подарок вельможи, Библию — дар правительства, и во владение с правом наследования пять деревень: Рутки, Меркуны, Русавьи, Дроново и Слободу. В королевской грамоте, утверждающей сей акт, новоиспечённый дворянин значился под именем Адама Мантуса. Пан Потоцкий умел быть благодарным...
Не исключено, что в этой легенде есть неточности, даже можно предполагать значительную долю вымысла, ибо из поколения в поколение, из уст в уста легенда передавалась людьми, порядком охочими до мифотворчества (особенно в глухие зимние вечера), порой не очень образованными и часто совершенно незнакомыми с историей — даже с историей своего края. Однако на то она и легенда!
Сын и наследник легендарного праотца Адама был Иосиф, или ещё — Иосиф Хронист, — так как он положил начало родовой хронике. Но точнее было бы называть Иосифа Воином, потому что ему пришлось немало повоевать на своём веку: и с татарами, и со шведами, и с турками — то за собственно польские земли, то за Правобережную Украину и Подолию. Вот как он сам говорил об этом в хронике: «Всякому поколению — своя беда, своя война. Моё поколение, видно, противно Господу. Где не было бойни, там не был я. А был я везде! Три войны — моё поколение... Принимая крохи с чужого стола, мой народ в своём доме — гость. Беда бедою! Ветер в суме гуляет по-хозяйски. А я не самый бедный. О Господи!».
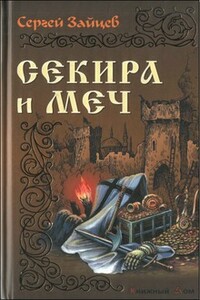
Герой романа, человек чести, в силу сложившихся обстоятельств гоним обществом и вынужден скрываться в лесах. Он единственный, кто имеет достаточно мужества и сил отплатить князю и его людям за то зло, что они совершили. Пройдет время, и герой-русич волей судьбы станет участником первого крестового похода…
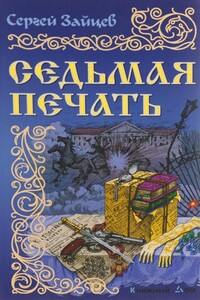
Роман переносит читателя в Петербург второй половины XIX столетия и погружает в водоворот сложных событий, которые и по сей день ещё не получили однозначной оценки историков. В России один за другим проходят кровавые террористические акты. Лучшие силы из императорского окружения брошены на борьбу с непримиримым «внутренним врагом»...
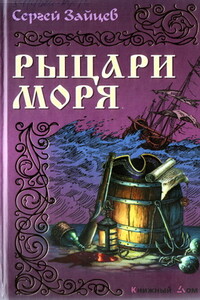
Молодой боярин не побоялся сказать правду в глаза самому Иоанну Грозному. Суд скор - герой в Соловках. После двух лет заточения ему удается бежать на Мурман; он становится капером - белым рыцарем моря…
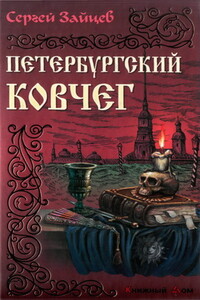
Действие романа развивается в 1824 г. Дворянин Аполлон Романов, приехав в Петербург из провинции, снимает комнату у молодой вдовы Милодоры, о которой ходят в свете нелестные слухи. Что-то непонятное и настораживающее творится в ее доме - какие-то тайные сборища по ночам... А далее героя романа ожидают любовь и патриотизм, мистика и предсказания, казематы Петропавловской крепости и ужас наводнения...
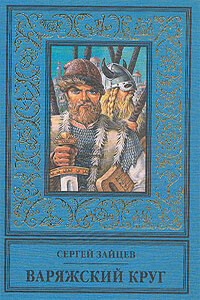
Новый исторический роман Сергея Зайцева уводит читателя в глубокое средневековье – в XII век, в годы правления киевского князя Владимира Мономаха. Автор в увлекательной форме повествует о приключениях и испытаниях, выпавших на долю его юного героя. Это настоящая одиссея, полная опасностей, неожиданностей, потерь, баталий, подвигов И нежной любви. Это битва с волками в ночной степи, это невольничьи цепи, это рэкетиры на средневековых константинопольских рынках. «Варяжский круг» – остросюжетное повествование, построенное на богатом историческом материале.
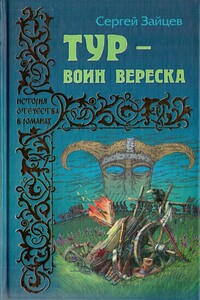
В романе рассказывается о нескольких эпизодах великой Северной войны, которая ещё известна как Двадцатилетняя война и победа в которой сделала Россию сильнейшей из держав. Ни шведские военачальники, ни сам король Карл XII не могли даже представить, что события, имевшие место в восточных землях Великого княжества Литовского, то есть в землях Белой Руси, станут началом крушения шведской империи. «Летучий отряд» Петра I наносит весьма серьёзное поражение шведам. Таинственный Тур, будто рыцарь, пришедший из давних времён, встаёт на защиту своего края...
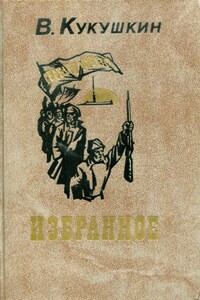
В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».
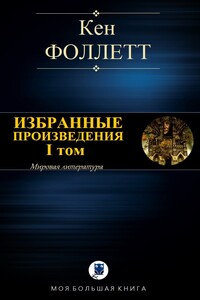
Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.
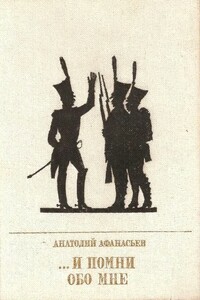
Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.
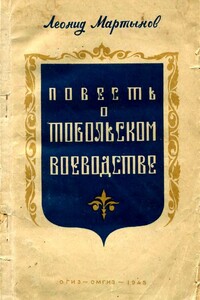
Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.
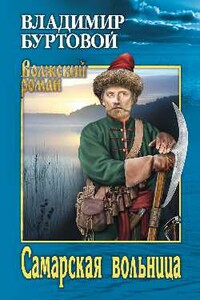
Это первая часть дилогии о восстании казаков под предводительством Степана Разина. Используя документальные материалы, автор воссоздает картину действий казачьих атаманов Лазарьки и Романа Тимофеевых, Ивана Балаки и других исторических персонажей, рассказывая о начальном победном этапе народного бунта.
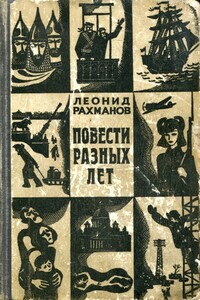
Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.
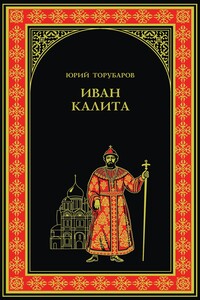
Иван Данилович Калита (1288–1340) – второй сын московского князя Даниила Александровича. Прозвище «Калита» получил за свое богатство (калита – старинное русское название денежной сумки, носимой на поясе). Иван I усилил московско-ордынское влияние на ряд земель севера Руси (Тверь, Псков, Новгород и др.), некоторые историки называют его первым «собирателем русских земель», но!.. Есть и другая версия событий, связанных с правлением Ивана Калиты и подтвержденных рядом исторических источников.Об этих удивительных, порой жестоких и неоднозначных событиях рассказывает новый роман известного писателя Юрия Торубарова.
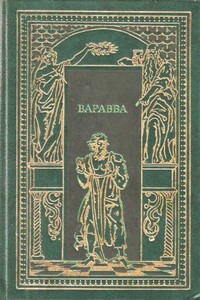
Книга посвящена главному событию всемирной истории — пришествию Иисуса Христа, возникновению христианства, гонениям на первых учеников Спасителя.Перенося читателя к началу нашей эры, произведения Т. Гедберга, М. Корелли и Ф. Фаррара показывают Римскую империю и Иудею, в недрах которых зарождалось новое учение, изменившее судьбы мира.
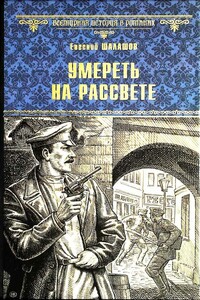
1920-е годы, начало НЭПа. В родное село, расположенное недалеко от Череповца, возвращается Иван Николаев — человек с богатой биографией. Успел он побыть и офицером русской армии во время войны с германцами, и красным командиром в Гражданскую, и послужить в транспортной Чека. Давно он не появлялся дома, но даже не представлял, насколько всё на селе изменилось. Люди живут в нищете, гонят самогон из гнилой картошки, прячут трофейное оружие, оставшееся после двух войн, а в редкие часы досуга ругают советскую власть, которая только и умеет, что закрывать церкви и переименовывать улицы.
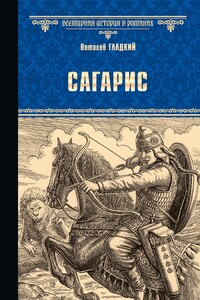
Древний Рим славился разнообразными зрелищами. «Хлеба и зрелищ!» — таков лозунг римских граждан, как плебеев, так и аристократов, а одним из главных развлечений стали схватки гладиаторов. Смерть была возведена в ранг высокого искусства; кровь, щедро орошавшая арену, служила острой приправой для тусклой обыденности. Именно на этой арене дева-воительница по имени Сагарис, выросшая в причерноморской степи и оказавшаяся в плену, вынуждена была сражаться наравне с мужчинами-гладиаторами. В сложной судьбе Сагарис тесно переплелись бои с римскими легионерами, рабство, восстание рабов, предательство, интриги, коварство и, наконец, любовь. Эту книгу дополняет другой роман Виталия Гладкого — «Путь к трону», где судьба главного героя, скифа по имени Савмак, тоже связана с ареной, но не гладиаторской, а с ареной гипподрома.