Печальные времена - [5]
Следующим моментом, в связи с которым авторитет Сириана повлиял на дальнейшее развитие неоплатонизма, стала экзегеза оракулов. Еще Порфирий с пиететом относился к Орфею и к «Халдейским оракулам», а Ямвлих посвятил последним целое сочинение. Плутарх Афинский составил на оракулы семьдесят «четверословий». Но только Сириан ассимилировал их, позволив текстам орфиков и халдеев войти именно в теоретический базис афинского философствования. Марин пишет, что по выбору Прокла Сириан комментировал для него «Халдейские оракулы» и это стало побудительным толчком для собственной экзегезы Прокла[24].
Прокл был самостоятельным мыслителем, но, как показывают его собственные ссылки, а также многие замечания Дамаския, общую концептуальную канву он все-таки заимствовал от Сириана (и Ямвлиха). После Прокла, к теоретическим построениям которого мы еще будем возвращаться и в данной статье, и в комментариях к тексту Дамаския, наступил период «энтузиастического» неоплатонизма Марина и Исидора. Трудно сказать, было ли это реакцией на энциклопедизм Прокла, своими трактатами и комментариями охватившего, казалось бы, все возможные сферы приложения философского «рацио», или вызывалось влиянием внешних обстоятельств: упадком общей образованности, ограничением круга языческих интеллигентов — ведь Марин упоминает о вынужденном годичном отъезде Прокла из Афин, намекая на противостояние восторжествовавшей идеологии и «сильным мира сего» («буйные ветры сшибались над благозаконною его жизнью» [25]). Так или иначе, Дамаский восстанавливает теоретическое философствование, что подтверждается и его текстами, и творчеством виднейших его учеников Симпликия и Присциана.
Традиционная система неоплатонического образования, стержнем которой был анализ — в определенном, установленном Ямвлихом порядке — произведений Платона, в V—VI веках практически не претерпела изменений. Но объемистые толкования сочинений Аристотеля, принадлежащие перу Симпликия, свидетельствуют о том, что воззрения Стагирита изучались в последние десятилетия существования Академии уже не только как логическое введение к учению Платона и не как ересь в устах платоника[26] Помимо наследия Аристотеля предметом регулярного, профессионально обязательного изучения были орфика и «Халдейские оракулы», а при Прокле — также геометрия Евклида. Круг учеников Дамаския едва ли был многочислен — в том числе и по причине невероятной даже для нашего времени образованности и усидчивости, необходимых для вхождения в платоническую традицию. Платонизм в то время был и образом жизни, включавшим в себя ауру мистериальной тайны и избранности, и образом мысли, ее особым нравом, где многосторонняя ученость, знание огромного количества текстов, позволяла даже философские новации подкреплять авторитетом древности. Иными словами, платоническая традиция стала организмом, войти в который можно было, лишь вложив в это немалый труд, а достижение здесь высот и признания предполагало длительный собственный рост в сердцевине академической мысли.
По многим признакам Дамаский не отличался от схолархов типа Сириана и Прокла. Как и остальные, он занимался подробными толкованиями Платона. Им были написаны комментарии к диалогам «Парменид» (вошедшие как органическая составная часть в публикуемый трактат), «Филеб», «Федон» [27], «Алкивиад I», и «Тимей» [28]. Симпликий указывает на не дошедшее до нас сочинение Дамаския «О числе, месте и времени». В тексте трактата «О первых началах» мы видим ссылку самого Дамаския на не дошедшее до нас сочинение «Халдейские беседы» [29]. У Фотия сохранились, в частности, пересказы биографии Исидора, принадлежащей перу Дамаския, и четырех трактатов о чудесных явлениях. Последние сочинения не должны удивлять человека, знающего античную философию, ибо традиция писать о чудесном и необычном сложилась еще в древнем Ликее. Однако, судя по пересказу Фотия, Дамаския интересовала не просто необычность явлений, но их возможная трактовка как проявлений божественной или теургической силы. Следовательно, подобно Марину и Исидору, он был склонен к символическому истолкованию происходящего, позволяющему чуть спокойнее воспринимать безрадостную для философии ситуацию, сложившуюся сразу после воцарения Юстиниана.
Итак, вернемся к событиям, последовавшим после 529 года. Престарелый Дамаский [30] оказывается свидетелем разрушения того, что существовало более девяти веков [31]. Причем едва ли можно было рассчитывать на возвращение старого — слишком многое изменилось в культуре и психологии обывателей со времен религиозной реформы Константина. Древняя философия ни государству, ни подавляющему большинству населения Византии не была нужна. Да и Юстиниан не походил на государя, с легкостью меняющего ориентиры своей политики. Что делать? Куда деться?
Трудно сказать, чем жили философы, лишенные Академии, в течение двух лет после эдикта Юстиниана. Принял ли кто-нибудь из них, пусть даже неискренне, для виду, христианское крещение? Искал ли возможное пристанище в других городах, в частности в Александрии, почти столетие оппозиционной Константинополю (вследствие как тяги ее жителей к независимости, так и господства в ней монофизитства; известно, что Александрия была местом жизни и творчеству последних неоплатоников — Симпликия, Олимпиодора, Элия и других, пока арабское завоевание окончательно не поставило крест на классической языческой мудрости)? Мы знаем лишь то, что в 531 году виднейшие академики предприняли путешествие в Персию для приобщения к древней мудрости недавно обретшего трон шаха Хосрова.
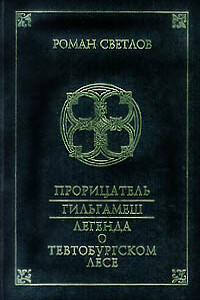
Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.
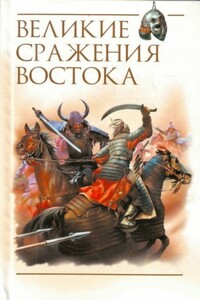
Военная история Востока известна гораздо хуже европейской (во всяком случае, массовой аудитории), хотя по своим масштабам, ожесточенности, вкладу в развитие военного искусства и влиянию на мировую историю многие азиатские сражения превосходят самые знаменитые битвы средневековой Европы – Гастингс и Баннокберн, Креси и Азенкур меркнут по сравнению с войнами арабо-мусульманского мира, Золотой Орды, Индии, Китая или Японии.Новая книга проекта «Войны мечей» посвящена величайшим сражениям Востока за полторы тысячи лет – от грандиозных битв эпохи Троецарствия до завоевания Индии Великими Моголами, от легендарных походов Чингисхана до разгрома японского флота первыми корейскими «броненосцами» (1592 г.), от беспощадной схватки Тамерлана с Тохтамышем до становления сегуната Токугава.
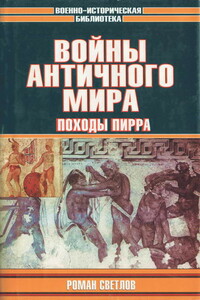
Перед вами первая книга о легендарном греческом полководце царе Пирре. Пирр дважды захватывал Македонию и возлагал на себя диадему Александра. Он принимал участие в крупнейшей битве той эпохи при Ипсе. Пирру довелось столкнуться практически со всеми военными системами времени: от македонских фалангистов и спартанских гоплитов до римских легионеров, ополчений южноиталийских горцев и карфагенского флота. Из большинства сражений он выходил победителем. Как полководца его оценивали очень высоко и современники, и потомки.
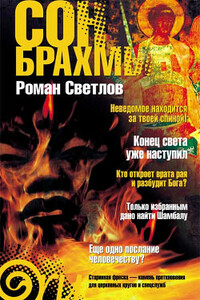
Действие мистического триллера «Сон Брахмы» разворачивается накануне Миллениума. Журналист Матвей Шереметьев, разгадывая тайну одной сгоревшей церкви, приходит к ужасному предположению: а что, если конец света уже наступил и нашего мира на самом деле не существует – мы лишь снимся дремлющему Богу?
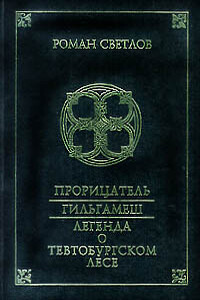
Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.
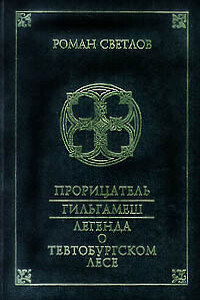
Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.