Пастухи фараона - [10]
В Тайной экспедиции, что вела расследование дела об «опасной и вредной деятельности секты каролинов, или хасидов», состоялся суд над «главой секты» Залманом Боруховичем. Обвинителем выступал Авигдор Хаймович. Все красноречие бывшего пастыря, весь пыл изгнанного главы общины обрушил раввин-доносчик на своего соперника. Увы, русские судьи не понимали еврейской речи. Суд распорядился, чтобы Авигдор Хаймович изложил свои обвинения письменно, по пунктам. Таковых набралось девятнадцать. Обстоятельный ответ рабби Залмана, переведенный на русский язык, убедил судей, что обвинения хасидов в непризнании правительства, в безнравственности, в устройстве тайных собраний ложны. Залман Борухович был оправдан.
По справедливости разрешил русский суд еврейский спор, узаконив де-факто и раввинизм — религию для избранных, и хасидизм — религию для народа. «Дело между евреями Авигдором Хаймовичем и Залманом Боруховичем, касающееся до их религии и прочего», показало правительству — раскол между хасидами и раввинистами угрозы для государства не представляет: ни те ни другие не желают опасных нововведений.
И верно, ни раввинисты, ни хасиды не стремились изменить устоев патриархального быта с его ранними браками, многочадием, талмудическим образованием, с его многочисленными самоограничениями, ведущими к физическому вырождению. Правильно поняли суть дела русские судьи: хасиды и раввинисты борются лишь за верховодство в кагале, но они в равной мере готовы прийти на помощь правительству в изобличении настоящих смутьянов. К числу последних и раввинисты, и хасиды относили тех, кто говорил о необходимости заниматься производительным, в том числе, физическим, трудом, о важности готовить детей к практической жизни, расширять их кругозор и приобщать к светской культуре.
А пока еврейские массы в Российской Империи погружались в мутные воды хасидизма или продолжали цепляться за соломинку талмудической учености, в Германии задули ветры просвещения, а над Францией вставала заря эмансипации; между еврейством на Западе и Востоке Европы возникла трещина, которая грозила превратиться в пропасть.
7. Наследство, которое мы не выбираем
После тех шести дней в июне 67-го мы стали героями; нас поздравляли, нам улыбались, старались затащить в гости.
Позвонил профессор, попросил зайти. «Непременно домой и непременно прежде, чем появишься в университете. Чувствую себя плохо, на кафедре не бываю, да и поговорить нужно с глазу на глаз».
И верно, профессор выглядел плохо, двигался с трудом, но после скромного угощения все же вышел со мной в сад.
— Послушай, — начал он, — мне уже семьдесят, я перенес шесть операций, сколько еще протяну, не знаю. Я решил, что вместо меня останешься ты.
— Я?
— Не перебивай. Я все обдумал. В этом году ты должен закончить докторат. Пока тебя не было, я перечитал все, что ты написал о Ходасевиче. Это хорошо, по-настоящему хорошо. Такую работу не стыдно защищать в Беркли или Иейле. Если ты защитишься в Америке, я пойду к ректору, я пойду к Шазару[30], я докажу, что моим преемником должен стать ты. Ты молод, ты сабра, ты наш выпускник.
— Но…
— Не перебивай. Я не хочу никого из «поляков», они в эвакуации покрутились год-другой в узбекистанах-казахстанах, кое-как выучили язык и думают, что стали большими знатоками русской словесности. Никто из них по-настоящему не знает русской литературы, не чувствует ее.
Профессор сел на скамейку, перевел дыхание.
— Да, да, наши молодые и раньше мало интересовалась русистикой, а сейчас слово «русский» произнести неприлично. Между прочим, на днях звонил ректор, говорит, давай переименуем кафедру, назовем вас «славянской филологией». Ну, почему никто не хочет понять, что теперешние советские к русской культуре отношения не имеют! Я так мечтал создать у нас школу русистики, настоящую, не провинциальную. Мне не удалось, но у тебя получится, поверь мне, по-лу-чит-ся! Теперешняя противорусская истерия уляжется, у молодых появится интерес к русской культуре. В конце концов, это и наше наследство.
Бог ты мой, этот особнячок, утопающий в зелени и тишине Рехавии[31], этот старенький профессор в курточке с бархатными лацканами и замшевых башмаках, этот разговор о русской литературе… Такой знакомый, но такой далекий мир! Неужели еще три месяца назад я жил тем, что спорил о Достоевском, защищал Гоголя, восхищался Платоновым, грезил Цветаевой? Нет, нет, это было в какой-то другой жизни, возврата в которую уже нет. После Шестидневной войны я мог говорить только о прошедших боях, думать только о будущем Иерусалима, Западного берега, Синая и, прежде всего, об ответственности, которую я теперь несу за судьбу страны. Но я любил своего профессора, я должен был объяснить ему, что произошло со мной, что произошло со всеми нами.
Когда бои закончились, когда я отмылся, отоспался и, часами рассматривая восточный берег Суэцкого канала, ожидал очереди на отправку домой, вдруг пришел страх. А ведь я мог погибнуть, лезло в голову, и Габи могли убить, и войну мы выиграли чудом, и арабы никуда не делись. В свободное от дежурств время я листал журналы с фотографиями ликующих толп на улицах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа. «Иерусалим наш!», «Не отдадим освобожденные территории» — пестрели заголовки.

Героиня романа – женщина, рожденная в 1977 году от брака советской гражданки и кубинца. Брак распадается. Небольшая семья, состоящая из женщин разного возраста, проживает в ленинградской коммунальной квартире с ее особенностями быта. Описан переход от коммунистического строя к капиталистическому в микросоциуме. Герои борются за выживание после распада Советского Союза, а также за право проживать на отдельной жилплощади в период приватизации жилья. Старшие члены семьи погибают. Действие разворачивается как чередование воспоминаний и дневниковых записей текущего времени.

Герой романа, как это часто бывает в антиутопиях, больше не может служить винтиком тоталитарной машины и бросает ей вызов. Триггером для метаморфозы его характера становится коллекция старых писем, которую он случайно спасает. Письма подлинные.

Четвертая книга монументального автобиографического цикла Карла Уве Кнаусгора «Моя борьба» рассказывает о юности главного героя и начале его писательского пути. Карлу Уве восемнадцать, он только что окончил гимназию, но получать высшее образование не намерен. Он хочет писать. В голове клубится множество замыслов, они так и рвутся на бумагу. Но, чтобы посвятить себя этому занятию, нужны деньги и свободное время. Он устраивается школьным учителем в маленькую рыбацкую деревню на севере Норвегии. Работа не очень ему нравится, деревенская атмосфера — еще меньше.

В книге описываются события жизни одинокой, престарелой Изольды Матвеевны, живущей в большом городе на пятом этаже этаже многоквартирного дома в наше время. Изольда Матвеевна, по мнению соседей, участкового полицейского и батюшки, «немного того» – совершает нелепые и откровенно хулиганские поступки, разводит в квартире кошек, вредничает и капризничает. Но внезапно читателю открывается, что сердце у нее розовое, как у рисованных котят на дурацких детских открытках. Нет, не красное – розовое. Она подружилась с пятилетним мальчиком, у которого умерла мать.
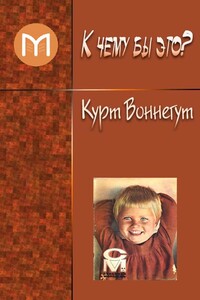
Папа с мамой ушли в кино, оставив семилетнего Поля одного в квартире. А в это время по соседству разгорелась ссора…
