Пастораль с лебедем - [178]
Василе Бану заерзал на завалинке:
— Та-ак, совсем спятил на старости лет, Георге, за решетку захотел? Нашел героя!.. Война, между прочим, а у меня солдат в сторожке, а немцы нагрянут — всем не поздоровится. Та-ак… — Он вдруг дернул Лунгу за полу пиджака. — Что это за пиджак, Георге, скажи мне? Смотри, одни прорехи, ветер гуляет… Снимай быстренько! Слушай, поносил — дай другому. А ты, Петро Сынджер, штаны скидывай, ничего — лето, тепло, в исподнем домой добежишь, проветришься… Та-ак… Кто ляпнул, что на кладбище непорядок? Ну, где этот военный, покажите мне его! Ты его видел, Георге? А на голову у меня шапка найдется… Раз-два, все мы штатские, люди мирные. Поняли?
Пожалуй, не очень-то они поняли… Ну, нашелся выход, и слава богу. Поднялись, кряхтя, с завалинки, потоптались и двинули к сторожке. Великая штука эта бановская цуйка, смотрите, все распри как рукой сняло. Но сам-то Василе, а? Голова! Его захватила собственная идея:
— А придут с проверкой — скажу: «Здравия желаем, господин патруль! Разрешите доложить: на моем участке все тихо-мирно, граждане, как положено, спят мертвецким сном. Ах да, имеется пополнение, новичок — угодил намедни под шрапнель. Из наших, местный… Бедняга, ни кола ни двора… Ловил мотыльков в поле, попал под обстрел, зашел поплакаться — обидно, и мотыльки куда-то подевались, и хлопцу не повезло. Правда, не своим ходом добрался, но куда подашься, коли живьем свое отбыл? В компанию к тутошним! Вот и лежит-полеживает, приема дожидается к святому Петру-ключнику. А прием — это яма… а яму копать надо, и вижу я, господин патруль, самому надобно браться за лопату, потому как вы военные, и ваше дело воевать!» — Вдруг Бану запнулся, словно обмяк: — Эх, наша жизнь, бре… чтоб ей пусто… Чем черт не шутит, может, это и не Аргир!
Тетя Наталица охнула:
— Вы что, дядя Василе, лишнего хлебнули? Кого ж мы хороним?
— Э-э, Наталья, ты сперва поживи с мое да посиди на кладбище лет полсотни с хвостиком, да схорони полсела… наглядишься…
Тем временем скрипнула дверь сторожки. Мигнула лампадка, Бану прищурился: так и есть, знатные сапоги, хром первостатейный, надевались пару раз, не больше…
— Н-да, — угрюмо пробурчал он, — придется ему и обувь сменить, сам займусь.
Василе, как и Георге Лунгу, прошел в пехоте первую мировую, а какой солдат не знает — русскому сапогу износу нет! К тому же если твоя латаная-перелатанная обувка расползлась, правый вон каши просит… Разве это по-хозяйски — живому хоть пропадай, а мертвый в обновке?
Тетя Наталица вздохнула. Слава богу, потихоньку-полегоньку все становится на свои места. Аргира похоронят, притом по обряду, как христианина. Старик Бану тоже доволен, не остался внакладе — и цуйка, и сапоги… Харон что надо!
Что до жизни со смертью, то и они разбрелись по своим углам. А люди, прибежавшие по солнцепеку на взгорье, ворочаются сейчас на подушках, третий сон досматривают…
Расходимся и мы по домам, чтобы улегся наконец этот суматошный день. Тетя Наталица взяла меня за руку:
— Зайдем к маме, скажу — будешь у меня спать.
Дом ее пустой, темный… Неужели тетя боится оставаться одна?
В комнате она зажгла лампу, потом лампадку под иконами и села. Прислонилась к стене, сгорбившись, а руки утонули в складках подола.
— Спи, мой маленький…
Чуть я прикрыл глаза, как слышу: «Ионикэ, где же ты, сыночек?.. — и громче: — Пережить бы это лихо, господи! Дождусь ли?»
…И уже утро. Меня разбудил стук в дверь. Тетя так и не ложилась, все ходила по комнате, то прикручивала фитиль у лампы, то снова прибавляла света, что-то бормотала… Видно, ждала, не постучит ли тайком ее Ионикэ, раненый. Или, бог даст, цел и невредим воротится… Война войной, а о чем думает мать? Лишь бы сын жив остался. Войне-то всего три дня, никто не знает, чья возьмет… Господи, пусть он придет к маме своей, в дом, где родился!… А ведь в поле совсем другое говорила, повторяла сыновьи слова: «Помирать буду, мама, а от наших не отстану». Разве не гордилась своим Ионом? Откуда же в ней такая перемена…
— Кто там?
Слышно, как в сенях лязгнул засов.
— Лелика, ох… я это! Не знаю, что делать, в примарию зовут, лелика! Узнали, видно, что плакала там… в поле…
Голос Анны-Марии дрожит. Это она прибежала, запыхавшись, ни свет ни заря. А голос ее ни с чьим не спутаешь — зовущий и настороженный, чуткий, как ушко лесной косули.
Тетя проводит ее в комнату. Молчит. Потушила подслеповатую лампу: накоптила за ночь.
— Донес на тебя кто-то, точно! — наконец выговаривает она. — Неужели Бану?
— Ой, и что на меня накатило, ума не приложу! Ох-ох-ох… — сетует Анна-Мария.
— Ладно, погоди ныть…
Иначе тетя не может: стоит кому-нибудь попасть в передрягу, готова грудью встать на защиту.
— Кто за тобой приходил?
— Да вчера сколько раз звали! Искали меня, а я там была… знаете, где была…
Видится мне Анна-Мария такой, как в то утро: изможденное сухое тело, худое в рябинках лицо, щеку захлестнул черный платок… А тогда глазел из-под одеяла: «Да она совсем другая стала, не такая, как на взгорье!..»
— Примарем опять Горинчоя поставят, что в прошлом году был, — лепечет Анна-Мария. — Соседка сказала, все до единого вернулись из-за Прута: и писарь, и старший жандарм. Этот Горинчой, он свояк вам, лелика… Сходили бы со мной, замолвили словечко…
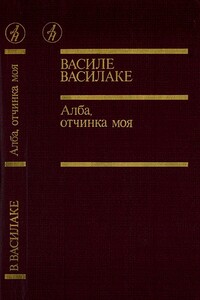
В книгу одного из ведущих прозаиков Молдавии вошли повести — «Элегия для Анны-Марии», «На исходе четвертого дня», «Набросок на снегу», «Алба, отчинка моя…» и роман «Сказка про белого бычка и пепельного пуделя». Все эти произведения объединены прежде всего географией: их действие происходит в молдавской деревне. В книге представлен точный облик современного молдавского села.

В повести Василе Василаке «На исходе четвертого дня» соединяются противоположные события человеческой жизни – приготовления к похоронам и свадебный сговор. Трагическое и драматическое неожиданно превращается в смешное и комическое, серьезность тона подрывается иронией, правда уступает место гипотезе, предположению, приблизительной оценке поступков. Создается впечатление, что на похоронах разыгрывается карнавал, что в конце концов автор снимает одну за другой все маски с мертвеца. Есть что-то цирковое в атмосфер «повести, герои надели маски, смеющиеся и одновременно плачущие.

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…