Парни - [33]
— Значит, ловок, — сказала робко девица. — Сыздетства рукомеслу кто обучен, завсегда ловок. У нас во дворе один живет, лягушек живьем глотает, представитель, в представленьях участник.
— Ловок и удал, а политически не зрел, — подхватил Неустроев. — Политическая, братцы мои, зрелость приходит вместе с культурой, а он опять же неучен, и получается тут закавыка.
Он поднял стакан выше затылка и опрокинул содержимое в горло.
— Закавыка, у тебя отец мужик?
— А то как же?
— Великолепно. Мужик, землероб, пахарь, — словом, соки земли. Какой у тебя с ним род связи?
— Сгиб он: сам себя прикончил сожженьем. Эту жизнь он считал неисправдышней.
— Вот видишь, — сказал Неустроев, — как трудно мужику побороть нутро свое и на рельсы стать. А почему? А потому, что собственический уклад его тянет к твердыням капитала. А индустриализация — она не картошка, её не проглотить разом. Трудно тебе, брат, верно, трудно. Дворик свой, домишко свой, курочка, яичко, женка под боком, садик, огородик, сам себе полновластный хозяин. Н-да! А теперь иди туда, куда тебя сунут, — то есть, брат, дисциплина. Диктатура пролетариата, брат. Простись с домиком своим навсегда, пролетарию твой домик горше редьки, н-да!
— Простился, — ответил Иван, — и с домиком и с курочками. Пролетарии всех стран, соединяйтесь — не хуже я прочих.
— Братец ты мой, вопрос только начинается там, где ты думаешь, что он уже разрешен. Верно, Шелков? Ладно, ты хочешь быть пролетарием, но ведь твоего одного желанья недостаточно. Не так ли? Надо, чтобы таковым тебя другие принимали. А как тебя будут принимать, отпрыска крепкого, говорят, середняка, самого себе хозяина? Нет, цыц, мальчик! Надо это званье мозолями рук и мозгов заслужить. Верно, Шелков?
Он опять отпил прежним манером, погладив девицу по спине ладонью.
— Будут тебя, ежели ты встал на этот путь пролетаризации, несколько годов испытывать, несколько годков закалять, несколько годков пробовать. И все будут вторить: мужик, собственник, мелкобуржуазная прослойка, и хоть не враг, но всего только союзник, — понял?
— Я от этих испытывателей, как ты, к примеру, немало уж дум передумал и крови растерял. Я человек трудовой, во мне крестьянская кровь, — ответил Иван.
Он опустил кулак на стол, и стаканы задрожали.
— Тише, Ванечка, — сказала девица, — стаканов ныне не добудешь.
— Э, как ты неразумен! Силушка Микуле Селяниновичу не дает покоя. Поверь, когда я выступал против тебя, всегда одно имел в виду — твое исправленье. Но тебя исправить нельзя. Мое последнее тебе слово. Неужели можно верить в исправленье твое? Знаем, как ты реагируешь на то, что каждый день в бригаде думают о твоем оппортунизме, о твоем происхождении, о твоем идеологическом лице, и, быть может, ты вот сейчас с нами здесь, а про твое «идеологическое лицо» уже разговаривают, — ну, к примеру: Мозгун Гриша, наш вождь в бригадном масштабе. А?..
— «Не искушай его без нужды», — пропел Шелков. — Мозгун его покровитель, Кемаль-паша.
Иван обратился к Костьке:
— Не всех пытают, не всех стерегут, Неустроев. Одного следует стеречь, другого следует приветить. Так рассуждает советская власть.
— Как рассуждает советская власть, мне лучше знать. Я ее маленький идеолог. Но — к примеру сказать, — разве не знаешь: овцу стригут — баран дрожит?
Голос Неустроева перешел в шепот. Лицо его к Иванову лицу близко придвинулось.
— Знаю, — ответил Иван тоже шепотом, — под страхом ноги хрупки. Калякай дальше.
Но Костька приблизил девицу к себе и гаркнул:
— Довольно дебатов! Девочки, гитару!
Девица в голубом метнулась в соседнюю комнату и принесла гитару Неустроеву.
— Дуй идеологически невыдержанную, — сказал Шелков.
Костька заиграл, а девица запела:
Шелков подхватил: «Безбрежно, безгранно…»
Вдруг Иван подошел к Костьке и положил руку на струны гитары; оборвались звуки.
— Ты толком меня облегчи, ежели ты Ленина читал и ученый читарь. Ты мне раскрой мудрость вашей политики и вообще.
— Голубка, — обратился Неустроев к девушке в голубом, — облегчи его.
Та, прижавшись к нему, стала толкать его в угол, к кровати.
— Мне до баб охоты нету, — сказал Иван, — у меня душа крестьянская наружу просится.
Он оттолкнул девушку грубо.
— Медведь! — промолвила она тихо. — Сам не знаешь, чего тебе надобно.
— Мужицкая душа твоя, — сказал Костька, — она буянить начинает.
— Я секрет жизни хочу знать, ты меня разнутрил. Ты мне про мужицкую судьбу партийную тайну открой.
— Я не гадатель. Судьба мужика с нашей сродни. А посколь кругом нас враги — океан врагов из буржуев, — то приготовляемся мы к социализму и корень собственности вытаскиваем. Ты уже вытащен, но на мельнице не перемолот вот и мелют тебя.
— До каких пор молоть будут?
— Пока мука не появится. Вот американцы приглашены тебя молоть. Золото за это им платят.
— А где золото берут?
Неустроев засмеялся и опять запел: «Мы только знак-комы…»
— Мобилизация внутренних ресурсов, милый мой.
— Не понимаю ни ресурсов, ничего другого. Очень по-ученому, по-газетному говоришь. И притчу твою хорошо помню про Иванушек-дурачков. Помнишь, когда я тебе руку вывихнул и ты глаголил в бараках? Пробую уразуметь до сих пор: темно и загадочно, как у попа в проповеди.

«Девки» — это роман о том, как постепенно выпрямляется забитая деревенская девушка, ощутившая себя полноправным членом общества, как начинает она тянуться к знаниям и культуре. Писатель, ученик М.Горького Николай Кочин, показывает безжалостную к человеку беспросветно дикую деревню, в которой ростки нового пробивают себе дорогу с огромным трудом. Тем сильнее противодействие героев среды, острее конфликт. Одна из главных героинь «Девок», беднячка Парунька Козлова, оскорбленная и обесчещенная, но не сломленная, убегает в город.
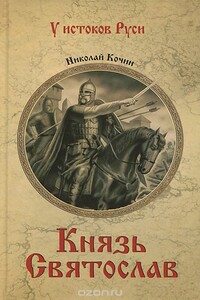
О Святославе Игоревиче, князе Киевском, написано много и разнообразно, несмотря на то что исторические сведения о его жизни весьма скудны. В частности, существует несколько версий о его происхождении и его правлении Древнерусским государством. В своем романе Николай Кочин рисует Святослава как истинно русского человека с присущими чертами национального характера. Князь смел, решителен, расчетлив в общении с врагами и честен с друзьями. Он совершает стремительные походы, больше похожие на набеги его скандинавских предков, повергая противников в ужас.
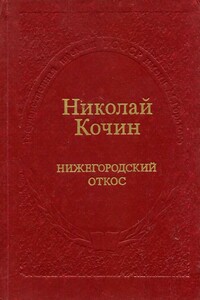
Роман «Нижегородский откос» завершает трилогию о Великой Октябрьской революции («Гремячая Поляна», «Юность», «Нижегородский откос») старейшего советского писателя. Здесь главный герой романа Семен Пахарев на учебе в вузе, В книге показано становление советского интеллигента, выходца из деревенской среды, овладевающего знаниями.

Книга посвящена жизни и деятельности российского механика-самоучки Ивана Петровича Кулибина (1735–1818).

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
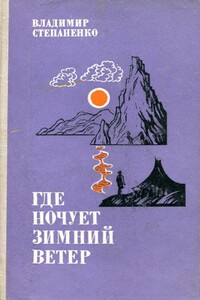
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

Антарктической станции «Восток» грозит консервация из-за недостатка топлива. Отряд добровольцев под руководством Ивана Гаврилова вызывается доставить туда топливо со станции «Мирный», но в это время начинаются знаменитые мартовские морозы. В пути выясняется, что топливо не было подготовлено и замерзает, его приходится разогревать на кострах. Потом сгорает пищеблок... В книгу известного писателя, путешественника и полярника Владимира Марковича Санина вошли повести «Семьдесят два градуса ниже нуля» (экранизирована в 1976 году, в главных ролях - Николай Крючков, Александр Абдулов, Михаил Кононов и др.) и «За тех, кто в дрейфе», действие которых основано на подлинных драматических событиях, развернувшихся на полярных станциях в Антарктиде и Арктике.

.Как и все другие произведения Павла Филипповича Нилина — автора замечательных повестей «Жестокость» и «Испытательный срок», рассказы эти отличает яркость и глубина характеров, образный, полный юмора и живых интонаций язык. Многие из них, в частности «Впервые замужем» (в главных ролях: Евгения Глушенко, Валентина Теличкина, Игорь Старыгин; режиссер Иосиф Хейфиц), были экранизированы.

В сборник вошли сценарии и статьи известного российского кинодраматурга Владимира Валуцкого, в том числе сценарии к фильмам «Начальник Чукотки», «Ярославна, королева Франции», «Зимняя вишня» и др.

Михаил Михайлович Зощенко (1894–1958) занимает свое особое место в советской литературе как непревзойденный рассказчик, создавший комический образ героя-обывателя, героя-мещанина с острым сатирическим звучанием. И не случайно его правдивые произведения оценивались часто партийными кругами как «клевета на советскую действительность». В книгу включены цикл сатирических новелл «Голубая книга», комедии «Преступление и наказание» и «Свадьба», по которым снят популярный кинофильм «Не может быть!» (режиссер Л.
