Парик моего отца - [31]
— Чет, пять. Пять четыре.
— Да, — говорю я. — Что-нибудь случилось?
— Сердечник шесть. Монтроз ноль.
— Уже знаю, — говорю я.
— Койденбех, — говорит он и вешает трубку.
— И я тоже, папа. И я тоже.
Комната полна мертвецов. Фрэнк смотрит на свои снимки. Отец шепчется с оглохшей трубкой. Маркус стоит у дверей Люб-Вагонетки со своим собственным отцом, выглядывающим из его лица, и улыбается губами, которые говорят: «Эй, жизнь, какую гадость ты мне еще подкинешь?»
Приплелся Дамьен в длинном плаще а-ля-шинель, зажав в зубах сигарету. В каком кино он сегодня проживает? «Коломбо»? «Большой сон»? Разглядывая нас сквозь свое похмелье, он дергается, точно каждое его движение — бесцеремонный монтажный переход из фильма «На последнем дыхании». Кажется, все мы тут достукались. Я смотрю на Фрэнка, но он никак не оторвется от фотографий — похоже, застрял в стоп-кадре. Джо выключилась. Я ничего не делаю — только смотрю.
Так кончается мир, не взрыв, но:
— Доброй ночи, Джон, мой мальчик, — говорит Люб-Вагонетка после тридцати минут нытья и кукурузной каши.
— Доброй ночи, бабушка, — говорит Маркус, наконец-то сделавший свой ход. Все совещание напролет он выдавал эффективные мини-реплики и умиротворяющие, полезные советы. Он озвучил тщательно смодулированное беспокойство насчет будущего года.
— Это можно попробовать в будущем году, — говорит он. — В смысле… если программа доживет до будущего года.
С тем же успехом он мог бы указать пальцем на бомбу, лежащую под столом. Глаза всех сидящих в комнате поворачиваются вовнутрь: как глаза беременных женщин, как глаза людей, которые знают, что останутся в живых — но их честь не уцелеет.
С тем же успехом он мог бы указать на бомбу и сказать: «А по-моему, это просто чемодан». Никто не заглядывает под стол. Никто не глядит на других. Маркус смотрит на всех, чисто из гнусности — ведь каждый из нас думал, что один знает про бомбу, если она вообще реальна. Каждый из нас считал, что успеет вовремя смыться и нет смысла создавать давку у дверей.
Каждый, за исключением Джо. Кто б сомневался — ее агентура работает безукоризненно. — Ну, я не в счет, — говорит она. — Я в спортивную перехожу.
Значит, все правда. Слухи верны. Будущего года не будет. Все правда: некоторые из нас пойдут на повышение, а большинство — восвояси, а декорации перекрасят и программе дадут другое имя типа: «Новая усовершенствованная Рулетка Любви» или «Руль-Эткалюб-Ви» или «Любопытные этапы в карьере человека, которого вы все равно не знаете».
— Да погодите, — говорит Маркус. — Это разве бомба? По мне, это скорее счастливая оказия!
— Ну вот, началось, — говорит Фрэнк, покамест Маркус, засучив рукава и поплевав на ладони, берет топор и начинает педантично снимать со всех стружку.
В столовке слухи окончательно пускают корни. Программа казнена. Мы молча берем подносы и выстраиваемся в очередь за едой, на вкус ничем не отличающейся от наших сваренных, остывших и вновь подогретых жизней. Я беру зеленый от паники горошек с растоптанной в пюре картошкой и острым гарниром из интриг. Фрэнк — «княжескую отбивную» а-ля-Макиавелли с картофелем фри (он же «снятая стружка») и сбитую спесь в дрожащем, как осиновый лист, соусе. Сценаристы берут паштет «Хренсвами» и морской язык за зубами. На десерт духу ни у кого не хватает.
Разговариваем мы о Маркусе. Все, кому он раньше нравился, теперь в грош его не ставят, говорит Джо.
— Господи, да у него только что отец умер.
— Ну и что? — говорю я.
До меня доходит, что я всегда недолюбливала отца Маркуса, хоть он и умер; и об этом мы никогда не сможем поговорить, потому что Маркус считал своего отца самым достойным человеком из тех, кто когда-либо высматривал на небе грозовые тучи. Маркус думал, что все еще бредет в сторону отца, искупая вину, доказуя свою доблесть — и прочие некрасивые черты своего характера.
Раньше он любил рассказывать истории про своего старика: повести об оскорблении, нанесенном бакалейщиком, о хамстве в баре, о разговоре, который случился между ними, когда ничего уже нельзя было поправить. Маркус имел обычай говорить, глядя на меня:
— Ну как мне от всего этого уйти?
Теперь ему больше неоткуда уходить и больше некуда идти. Возможно, в его скитаниях по жизни было что-то похвальное (если вас интересуют мальчишечьи скитания, меня, к примеру, — нет). Маркус вечно мучился от сердечных ран, нанесенных какой-нибудь женщиной, которую он даже не любил. Время от времени слышишь, как он говорит в телефонную трубку: «Прости…», словно имея в виду: «Мне и самому жалко, что у меня такой сложный характер», и из его лица с неодобрительно-горделивой миной выпячивается старик. Отец Маркуса всех нас ненавидит. Меня он ненавидит просто так, для развлечения.
Когда мы возвращаемся в контору, он выходит из кабинета Люб-Вагонетки в посткоитальном затмении чувств. Он распевает:
Тут следовало бы его подколоть — но я зачем-то дотрагиваюсь до его руки. Вот ведь херня какая.
ОТМЕТИНА
Итак, я начала чувствовать на себе благотворное воздействие Стивена, результаты его дыхания у меня на плече, его чистоты, его заботливости. Из-за белых стен комнаты кажутся более просторными. Просветленными. Белизна раздвинула углы, наполнила смыслом закоулки; она утешает меня в потемках.
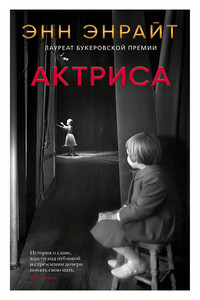
Новая книга обладательницы Букеровской премии Энн Энрайт рассказывает историю дочери, пытающейся распутать полное тайн и загадок прошлое своей матери, легенды ирландского театра.

Новый роман одной из самых интересных ирландских писательниц Энн Энрайт, лауреата премии «Букер», — о любви и страсти, о заблуждениях и желаниях, о том, как тоска по сильным чувствам может обернуться усталостью от жизни. Критики окрестили роман современной «Госпожой Бовари», и это сравнение вовсе не чрезмерное. Энн Энрайт берет банальную тему адюльтера и доводит ее до высот греческой трагедии. Где заканчивается пустая интрижка и начинается настоящее влечение? Когда сочувствие перерастает в сострадание? Почему ревность волнует сильнее, чем нежность?Некая женщина, некий мужчина, благополучные жители Дублина, учатся мириться друг с другом и с обстоятельствами, учатся принимать людей, которые еще вчера были чужими.

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…
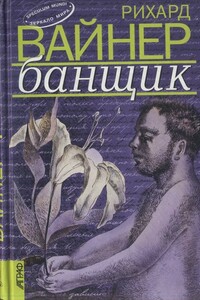
Выдающийся чешский писатель, один из столпов европейского модернизма Рихард Вайнер впервые предстает перед русским читателем. Именно Вайнер в 1924 году «открыл» сюрреализм. Но при жизни его творчество не было особенно известно широкой аудитории, хотя такой крупный литературный авторитет, как Ф. К. Шальда, отметил незаурядный талант чешского писателя в самом начале его творческого пути. Впрочем, после смерти Вайнера его писательский труд получил полное признание. В 1960-е годы вышло множество отдельных изданий, а в 1990-е начало выходить полное собрание его сочинений.Вайнер жил и писал в Париже, атмосфера которого не могла не повлиять на его творчество.
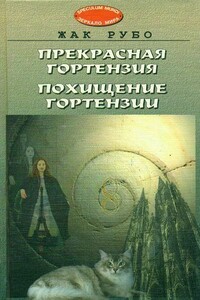
Жак Рубо (р. 1932) — один из самых блестящих французских интеллектуалов конца XX века. Его искрометный талант, изощренное мастерство и безупречный вкус проявляются во всех областях, которыми он занимается профессионально, — математике и лингвистике, эссеистике и поэзии, психологии и романной прозе. Во французскую поэзию Рубо буквально ворвался в начале пятидесятых годов; не кто иной, как Арагон, сразу же заметил его и провозгласил новой надеждой литературы. Важными вехами в освоении мифологического и культурного прошлого Европы стали пьесы и романы Рубо о рыцарях Круглого Стола и Граале, масштабное исследование о стихосложении трубадуров, новое слово во введении в европейский контекст японских структур сказал стихотворный сборник «Эпсилон».