Парадоксы Зенона - [26]
В тот миг он пережил нечто гораздо худшее, чем печаль от того, что далекие земли так и останутся непознанными. Разноцветные огоньки и колышущиеся формы открылись ему в их абсолютной замкнутости, во всей их чудовищной наготе элементарного присутствия, бытия только ради самого бытия. Ему казалось, что он упал на дно пропасти, что ниже уже падать просто некуда. Но, по его словам, ужас охватил его не от встречи с отвратительными формами в сосудах прибора. И не от того, что существуют формы, не имеющие названия и места в нашем мире. Больше всего напугало его осознание того, что он впервые увидел равнодушную материю, которая обычно скрывается под формами, именами и синтаксическими конструкциями, накрепко соединенными с нашей жизнью, материю, из которой сотворено все – все вещи и все существа. Происходящее на столе обернулось сорняком, расползшимся по Вселенной. Он увидел, что имена и формы – всего лишь случайные сны этой материи, что формы родились лишь из ее равнодушного бурления и набухания и что они снова растворятся в ней, что имена – лишь отголоски какого-то невнятного шума. Каждое существо и каждая вещь стали чем-то гораздо более чудовищным и отвратительным, нежели то чудовищное и отвратительное насекомое, какое он видел в фантастическом фильме. Он еще не вышел из мира смысла – теперь, однако, сам смысл казался ему бессмысленным, вернее даже – куда более страшным, чем бессмысленность, ибо для смысла нет и не может быть имени. Человек почувствовал себя запертым в тесном террариуме космоса, который до последнего уголка был заполнен скользкими гадами; мало того – он и сам превратился в такое же космическое чудовище. И воздух, который окружал его и проникал в легкие, был одной из форм этой отвратительной материи; вдыхая, он чувствовал большее отвращение, чем если бы ему в рот насильно впихивали гниющую и разлагающуюся падаль. Он знал, что вырваться из жуткого сна этого космоса не поможет даже самоубийство, поскольку самоуничтожение человека никак не изменит того факта, что жуткий, липкий океан бытия существует – и что нет и не может быть ничего иного.
Но сторож тут же отметил, что где-то на дне его ужаса и отвращения зарождается иное чувство, и скоро с изумлением осознал его как какое-то странное, до сих пор не изведанное счастье. Оно постепенно росло, и наконец все усиливающиеся волны ликования затопили все его сознание и тело и даже проникли через кожу в окружающее пространство; все вещи, которые он видел, сотрясались в ритме этого блаженного свершения. Он понял: это странное наслаждение родилось в тот момент, когда он соскользнул в пространстве ужаса еще ниже, хотя прежде ему казалось, что это невозможно. До того момента он был еще вплетен в сеть отношений, которые делали мир единым, он в страхе хватался за ячеи и наблюдал водоворот единственно сущего. Внезапный прилив ужаса заставил его отпустить руки и упасть прямо в волны. Начав тонуть, он ощутил их ритм, слегка успокоился, позволил волнам нести себя и внезапно понял, что отлаженный ход миропорядка, придающий смысл всем вещам и событиям, – всего лишь эхо этих странных ритмов, понял, что эти ритмы не являются отражением чего-то еще, а их осмысленность или неосмысленность соразмерять абсолютно не с чем. Хаос открылся ему как источник любого порядка, а тем самым – как наиболее совершенный и нерушимый порядок. То, что еще минуту назад было более бессмысленным, чем сама бессмысленность, не приобрело смысла, но обернулось болезненно жгучим сиянием, в котором смысл и бессмысленность исчезали, как исчезает разница между цветами, когда мы отдаляем от чистого источника света стеклянную призму, разлагающую белый цвет на цвета радуги. А поскольку все формы оказались только лишь случайными межами, размытыми течением самой материи, этот свет озарил все сущее, и весь космос пульсировал в одном несущем наслаждение ритме. Ощущение всеобщей чудовищной и гротескной бессмысленности превратилось в ощущение огромного счастья. Сожаление о том, что он не увидит дальних стран, исчезло. Теперь он знал, что в освободившихся от имени формах ему на каждом шагу будет открываться пространство незнаемого, куда более загадочное и чудесное, чем экзотические побережья и таинственные уголки городков, затерянных в Азии; он знал, что в любой момент сможет искупаться в сиянии более ослепительном, чем солнце юга. Это была удивительная перемена. Даже если бы за ночь на жижковском холме вырос огромный золотой дворец, охраняемый тиграми, бродящими между колонн, это и то было бы менее удивительным. Мечты о приключениях и неожиданных встречах поразительным образом исполнились. Ему открылись джунгли, скрытые в наших пространствах, теперь он мог путешествовать по собственной комнате, по пыльным фасадам домов, которые были видны из окна. Время от времени он возвращался к дядюшкиному прибору и повторял химический процесс – не для того чтобы открыть тайну черного порошка, а чтобы с помощью этого обряда напомнить себе момент, когда он стал жителем иного космоса.
Пока он рассказывал, Самюэль с трудом преодолел расстояние между нашими креслами, взобрался ко мне на плечо, устроился там поудобнее и принялся длинным клювом рыться у меня в волосах. Я вспоминала о том, как писатель на станции в Бранике говорил мне о явлении пустоты. Мне казалось, что встречи, которые были у обоих этих людей и которые всегда сопровождались голубым светом, имели что-то общее. И я коротко рассказала мужчине в очках о голубом свете на странице и о рождении морского города. Он слушал внимательно, но не согласился с тем, что их случаи похожи. Идея о том, что необходимо помогать рождению слов, возникающих из трепета пустоты, казалась ему возмутительной, он полагал ее изменой заповеди, которую внушает нам пустота. Различие между словами, которыми люди прикрывают зияние пустоты, и словами, рожденными в этой пустоте, не казалось ему значительным. В обоих случаях, думал он, к бесформенному относятся как к чему-то, могущему обрести форму, а к тишине – всего лишь как к предвестнице слов. Сияние пустой странички, говорил он, всегда будет более упоительным, чем истории, что могут родиться на ней; дворцы в джунглях, морские города и сады в пустыне, дарящие своим благоуханием чистый лист, гораздо более прекрасны, чем те, очертания которых восстают из слов. Он не понимал, как писатель мог посвятить многие годы жизни уничтожению изначального сияния открывшейся ему пустоты, превращая ее в слова. Сторож утверждал, что его собственный опыт обратен тому, что произошло с писателем. Писатель стал свидетелем рождения слов, тогда как сам он столкнулся с их гибелью. Буквы перестали отличаться от остальных видов пятен, покрывающих поверхность вещей, а звуки слов слились со всеми остальными голосами дома и города, которые он слышал в своей комнате, – с визжанием какого-то инструмента в мастерской во дворе, с шумом автомобилей, бульканьем канализации в утробе дома, шорохом занавесей. Вокруг распростерся бесконечный немой текст без единого пробела, текст, к которому не существовало ключа и который сообщал своим светом лишь собственную, достигшую совершенства бессмысленность.
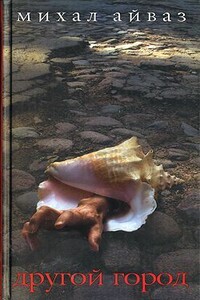
В последнее время я часто задаюсь вопросом: если современный писатель едет ночным автобусом, куда заходит полуглухой морской котик и садится прямо рядом с ним, хотя в автобусе совершенно пусто, имеет ли писатель право включать в свои книги аннотацию на хеттском языке?..
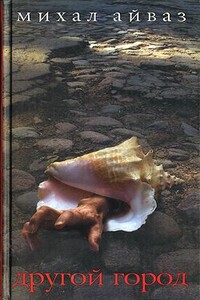
Михал Айваз – современный чешский прозаик, поэт, философ, специалист по творчеству Борхеса. Его называют наследником традиций Борхеса, Лавкрафта, Кафки и Майринка. Современный мир у Айваза ненадежен и зыбок; сквозь тонкую завесу зримого на каждом шагу проступает что-то иное – прекрасное или ужасное, но неизменно странное.Антикварная книга с загадочными письменами, попавшая в руки герою, не дает ему покоя… И вот однажды случайный библиотекарь раскрывает ее секрет. Книга с этими текстами принадлежит чужому миру, что находится рядом с нашим, но попасть в который не только непросто, но и опасно…
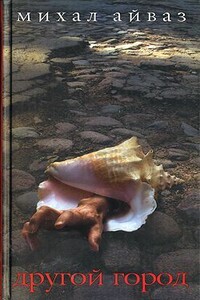
Михал Айваз – современный чешский прозаик, поэт, философ, специалист по творчеству Борхеса. Его называют наследником традиций Борхеса, Лавкрафта, Кафки и Майринка. Современный мир у Айваза ненадежен и зыбок; сквозь тонкую завесу зримого на каждом шагу проступает что-то иное – прекрасное или ужасное, но неизменно странное.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Потомки атлантов живут среди людей. Они владеют мощным биологическим оружием и секретами бессмертия. Но один из них ради спасения любимой нарушил свой долг перед древней Коллегией. Теперь за ним охотятся не только его соплеменники, но и спецслужбы сильнейших держав мира. Передовые военные технологии — против биологического оружия древности. Тысячелетняя мудрость атлантов — против отлично обученных профессионалов незримой войны. Победитель получит власть над миром и личное бессмертие. Волей случая в эту незримую войну оказываются втянутыми двое подростков: брат и сестра из российской глубинки.

В очередной том собрания сочинений Андрэ Нортон включены совершенно не типичные для творчества писательницы романы. Но приключения молодых героев, разворачивающиеся в вымышленной стране и на придуманном острове, не менее увлекательны, чем события большинства ее фантастических произведений.

Земля. Ближнее будущее.Контроль над человеческим поведением...Молодежь, тысячами вымирающая и сходящая с ума от новых наркотиков. .Новая религия фанатичных «стигматников»...Бесконечные войны международных мафиозных кланов...И – опасные, головокружительные приключения двух парней – П. Алекса и Санчо Рамиреса Парней, случайно заполучивших одну ОЧЕНЬ СТРАННУЮ штуковину. Штуковину, за которой, похоже, охотятся ВСЕ, имеющие – или желающие получить – ВЛАСТЬ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.