Памятник и праздник: этнография Дня Победы - [3]
Наконец, мы задавались вопросом о прагматике сакральности. Каким образом люди признают то или иное место священным? Какие типы поведения, какие эмоции принято демонстрировать в сакральном публичном пространстве, а какие считаются недозволенными — и как эти оценки и модели санкционируются?
Прежде чем выделить некоторые из тем, отраженных в статьях сборника, я вкратце обрисую контекст социологического и исторического изучения Дня Победы и праздников в целом, в который вписано наше исследование[5].
Один из центральных вопросов, который ставят перед нами как День Победы, так и другие постсоветские (и не только) праздники, может быть сформулирован очень просто: чей это праздник? Ответ, который дает большинство исследователей, построен на той или иной бинарной оппозиции. 9 мая — это в первую очередь праздник власти, официоза, Кремля. Им противостоят простые, обычные люди со своей частной жизнью — носители аутентичной, низовой, «подлинно народной памяти» о войне[6]. Две эти составляющие чаще всего мыслятся как противоположности, как два разных полюса — при том что взаимоотношения между ними могут анализироваться по-разному.
В наиболее прямолинейной версии казенный, лживый, идеологизированный День Победы противопоставляется подлинно народным чаяниям, «раздавленным официозом». Согласно такому прочтению подлинной скорбной памяти о жертвах, страданиях, лишениях и человеческой стороне войны приходится пробиваться из-под гнета памяти официальной, триумфалистской, героической[7].
Иногда эти два пласта представляются как разные дискурсивные (и поведенческие) режимы. Так, Ирина Щербакова, Ирина Прусс и другие читатели материалов конкурсов сочинений, проводимых среди российских школьников обществом «Мемориал», обращают внимание на разрыв между тем, как ветераны вспоминают о военном времени в публичной сфере, структурированной властью (в частности, в контексте официальных торжеств), и в доверительной, домашне-семейной обстановке[8].
Однако применительно к праздничным практикам наиболее влиятельными оказались концептуальные рамки, заданные в свое время Мишелем де Серто. Он противопоставил стратегии политических властей или других элит повседневным тактикам слабых, присваивающим и видоизменяющим предписанные сверху культурные коды, наполняющим их собственным смыслом и подрывающим смыслы, предзаданные доминирующими стратегами[9]. Пожалуй, первым, кто в таком ключе интерпретировал советские и постсоветские праздники, стал Андрей Зорин:
[В позднем СССР] жизнь отдельного человека с ее радостями и празднествами была полностью и безнадежно оторвана от официальных церемоний. Тем не менее взаимоотношения между этими двумя типами праздников никогда не заключались в протесте, оппозиции или даже равнодушии. <…> То, как советские люди присваивали официальные торжества, можно описать при помощи метафоры де Серто. Они жили в них, словно в съемной квартире, которую они обустраивали собственными желаниями, надеждами, переживаниями и убеждениями[10].
Подобные бинарные оппозиции — между властью и народом, публичным и приватным дискурсивными режимами, владельцами и арендаторами идеологической «квартиры» — продолжают структурировать понимание Дня Победы. Это усугубляется тем, что специфика 9 мая чаще всего выпадает из поля зрения исследователей, интересующихся либо репрезентацией войны, либо (советскими или постсоветскими) праздниками вообще.
Сравнительно немногие исследования, затрагивающие День Победы, по большей части фокусируются на транслируемых этим праздником репрезентациях — они рассматривают его как текст, подлежащий декодированию и контекстуализации наряду с другими формами репрезентации войны: газетными статьями, научными исследованиями, фильмами, литературными произведениями, продуктами масс-медиа. При этом в большинстве случаев декодируются интенции советских или российских центральных властей либо (в самые последние годы) различных влиятельных фигур, воздействующих на подобные репрезентации: журналистов, публицистов, историков, кинорежиссеров, предпринимателей и т. д.[11] Остальные участники праздника, причем как россияне, так и жители других стран, фигурируют в лучшем случае как пассивные потребители создаваемого в Москве праздничного продукта. Если их и исследуют, то только в рамках изучения «общественного мнения»[12], как будто значение праздника исчерпывается тем, какое отношение к нему (или к предлагаемому набору оценок военного времени, роли Сталина, значения победы и 9 мая для национальной идентичности) фиксируют опросы. Все подобного рода исследования так или иначе вписаны в парадигму «коллективной памяти». Даже те немногие авторы, которые принимают во внимание не только дискурсивное измерение, но и некоторые из праздничных ритуальных практик, сосредоточивают внимание на московских торжествах, исследуя способы и эффекты их трансляции в другие города России и за ее пределы[13]. Между тем почти за четверть века своего постсоветского существования День Победы оброс множеством местных значений и традиций, которые невозможно понять, если рассматривать их лишь через призму «войн памяти», как манифестацию того или иного восприятия исторических событий или же исключительно как реакцию на заданную Кремлем ритуальную хореографию.

В монографии осуществлен анализ роли и значения современной медиасреды в воспроизводстве и трансляции мифов о прошлом. Впервые комплексно исследованы основополагающие практики конструирования социальных мифов в современных масс-медиа и исследованы особенности и механизмы их воздействия на общественное сознание, масштаб их вляиния на коммеморативное пространство. Проведен контент-анализ содержания нарративов медиасреды на предмет функционирования в ней мифов различного смыслового наполнения. Выявлены философские основания конструктивного потенциала мифов о прошлом и оценены возможности их использования в политической сфере.
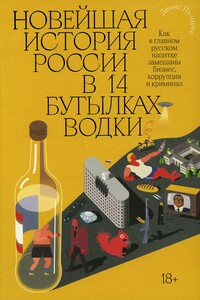
Водка — один из неофициальных символов России, напиток, без которого нас невозможно представить и еще сложнее понять. А еще это многомиллиардный и невероятно рентабельный бизнес. Где деньги — там кровь, власть, головокружительные взлеты и падения и, конечно же, тишина. Эта книга нарушает молчание вокруг сверхприбыльных активов и знакомых каждому торговых марок. Журналист Денис Пузырев проследил социальную, экономическую и политическую историю водки после распада СССР. Почему самая известная в мире водка — «Столичная» — уже не русская? Что стало с Владимиром Довганем? Как связаны Владислав Сурков, первый Майдан и «Путинка»? Удалось ли перекрыть поставки контрафактной водки при Путине? Как его ближайший друг подмял под себя рынок? Сколько людей полегло в битвах за спиртзаводы? «Новейшая история России в 14 бутылках водки» открывает глаза на события последних тридцати лет с неожиданной и будоражащей перспективы.

Книга о том, как всё — от живого существа до государства — приспосабливается к действительности и как эту действительность меняет. Автор показывает это на собственном примере, рассказывая об ощущениях россиянина в Болгарии. Книга получила премию на конкурсе Международного союза писателей имени Святых Кирилла и Мефодия «Славянское слово — 2017». Автор награжден медалью имени патриарха болгарской литературы Ивана Вазова.

Что же такое жизнь? Кто же такой «Дед с сигарой»? Сколько же граней имеет то или иное? Зачем нужен человек, и какие же ошибки ему нужно совершить, чтобы познать всё наземное? Сколько человеку нужно думать и задумываться, чтобы превратиться в стихию и материю? И самое главное: Зачем всё это нужно?
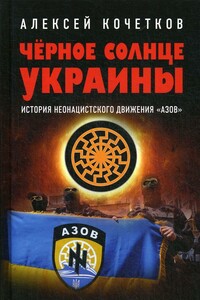
Украинский национализм имеет достаточно продолжительную историю, начавшуюся задолго до распада СССР и, тем более, задолго до Евромайдана. Однако именно после националистического переворота в Киеве, когда крайне правые украинские националисты пришли к власти и развязали войну против собственного народа, фашистская сущность этих сил проявилась во всей полноте. Нашим современникам, уже подзабывшим историю украинских пособников гитлеровской Германии, сжигавших Хатынь и заваливших трупами женщин и детей многочисленные «бабьи яры», напомнили о ней добровольческие батальоны украинских фашистов.
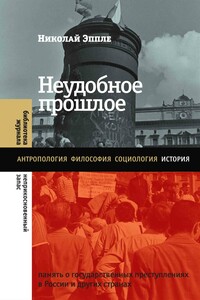
Память о преступлениях, в которых виноваты не внешние силы, а твое собственное государство, вовсе не случайно принято именовать «трудным прошлым». Признавать собственную ответственность, не перекладывая ее на внешних или внутренних врагов, время и обстоятельства, — невероятно трудно и психологически, и политически, и юридически. Только на первый взгляд кажется, что примеров такого добровольного переосмысления много, а Россия — единственная в своем роде страна, которая никак не может справиться со своим прошлым.