Память земли - [94]
«А жить-то хорошо! — подумал Борис Никитич и, как бывало в детстве, радостно ощутил это каждой частицей кожи, каждым ногтем. — Здорово!»
Из-под брезента, поднятого от поземки над его высокой полковничьей папахой, он глянул на поплывший в темноту клуб с электрической лампочкой, летающей на ветру, с людьми на крыльце и, решив мириться с Голиковым, эпически произнес:
— Вот эти, что на крыльце, товарищи не начнут завтра выселяться, а хотением вашей левой пятки снова примутся изыскивать землю с молочными реками, сахарными пляжами. Еще бы, когда вы так соблазнительно рекомендовали товарищам это занятие!..
Он сдавил плечи Сергея, кивнул на белую в сумерках быструю поземку, которая мела уже на уровне окошек в домах, а в степи, на открытом, задувала небось посерьезнее, и предложил:
— Давайте-ка вернемся! Выспимся на кроватях, к утру, может, и погода наладится, поедем нормально, своими машинами. А перед выездом соберем народ, вы доложите, что пошутили, что ваша драгоценная пятка передумала. Нет, ей-богу! Отмените свое предложение о новых поисках, и пусть народ любо-мило катит в Подгорнов.
— Да вы ж знаете, — не принимая благодушного тона, ответил Сергей, — что Подгорнов — гиблое место, дыра. И задачи наши знаете — вдесятеро улучшить жизнь этих людей.
— Скажем больше! — подхватил Орлов. — Переселенцы сейчас даже не просто люди! Они в глазах миллионов — избранники, для которых развернута стройка. От наших переселенцев, Сережа, страна ждет свершений, как от своих героев. Именно потому недопустимо, чтоб они обманули общественность, тотчас же не развернулись на новых полях.
Сергей хмыкнул:
— Влипли в герои, — значит, валите в бесперспективный сухой Подгорнов на голодранство! Точней, на нищенство, на то, чтоб тянуть руку за дотациями, христарадничать!
Орлов оглянулся: не слушают ли их? Спина кучера в напяленной кулем венцераде маячила впереди в крутящемся снегу; заместитель начальника комплексной экспедиции по изысканию и проектированию населенных пунктов в связи с затоплением, словно обремененный своим непомерно длинным титулом, с первой еще секунды пристроился спать, натянул на уши каракулевую кепку, залез под толстую овечью полость.
Нет, никто их не слышал.
— Бесспорно, Кореновскому будет не мед, — сказал Орлов. — Но весь-то район важнее одного Кореновского. Он первый, где собрание проведено, и у всех переселенцев он теперь на виду, все будут коситься на него, смекая про себя: можно или не можно и нам тянуть волынку с переездом.
Орлова раздражало, что он упрашивает. И без толку, наверно… А ведь продолжайся их дружба, все легко б утряслось дома, за добрым разговором, за рюмкой водки, которую Орлов не пьет, между шутками передергивает; да и Сергей не пьет, а лишь для куража, для душевного настроя любит, когда графин на столе, потереть руки, чокнуться, словно заправский гуляка.
— Да, — подытожил Орлов, — не глядя на неудобства, хутор обязан ехать.
— А если эти, что на крыльце, имеют другое мнение? — спросил Сергей. — Или прикажете не считаться с их активностью, их творчеством?.. Наконец, с кровью их сердца!
Борис Никитич сморщился. За весь нынешний день единственным со стороны Голикова нераздражающим разумным было его решение уезжать санями, бросить машины в хуторе. Сани даже здесь, среди затишной улицы, скрипя, резко дергаясь, вреза́лись в переметы снега; по брезенту, поднятому над головами, сеяло точно песком; рядом этот «герой» молол об активностях, кровинах, сердцевинах… Да откуда в нем, современном парне, такие древности?! Разве вдолбишь ему, что точно так же, как изжили себя лошади, остались в нашем мире техники лишь для призовых скачек и киносъемок, так же эта активность колхозников с хватаниями за грудки, с басовыми выкриками о правдах-матках осталась лишь для книг, и опять же для киносъемок… Орлов терпеть не мог игру в бирюльки, и теперь, когда освещенный клуб скрылся из глаз и возвращение отпало, он сказал:
— Послушайте, Сергей Петрович! Куда и когда двигаться затопляемым колхозам, зависит только от вашего и моего сознания. И бросьте долдонить еще о чьих-то активностях. Их, этих активностей, на практике нету. Уразумейте — отсутствуют!.. Станицы десятки уже лет, еще с коллективизации, переключились на другое. На хозяйство. А во всем остальном полагаются на указание: они ведь не мужики, они колхозники, народ дисциплинированный, реальный.
— Но тогда зачем же правительственная директива — поднимать инициативность переселенцев, их творчество?
— Тьфу! — сплюнул Орлов. — Короче! — сказал он. — Кампания, как я уже имел удовольствие вам напоминать, поручена райисполкомам, то есть в нашем районе мне! А вы, если уж так хочется, воображайте, что вот те оставшиеся в хуторе товарищи переполнены, как вы выражаетесь, проблемами! Творчеством! Что они сейчас митингуют, толкают огненные речи!..
Нет, речей никто из оставшихся не «толкал». Хуторяне, едва собрание закончилось, разбрелись; привычно задерживалось лишь колхозное начальство да от нечего делать топталась молодежь. Люба все стояла на ветру, с ненавистью оглядывала каждого.
С крыльца сходили руководители. Штатные отцы колхозников. Боги, которые на глазах Любы прохлопали пустошь… Взамен всучили им, лопухам, занюханный Подгорнов; следом перечеркнулось и это, — мол, чиликайтесь, ищите, балбесы, сызнова; а они прикидывались теперь, что все в порядке. Они будто демонстрировали свое личное благополучие, вышагивали парами. Черненкова с мужем, Конкин с Еленой Марковной, Щепеткова с начальником карьера Солодом. Правда, Щепеткова отбрила его: «Отцепились бы, Илья Андреевич». Но кто бы кого ни отбривал — все спешили в свои дома к разогретому ужину, к горячему чаю… Нет, не все. Валентин Голубов в своей по-чапаевски кинутой на затылок кубанке с красным бархатным верхом с золотым перекрестьем догнал на ступенях Андриана Щепеткова и Любиного свекра, задержал их. Сделал это робким, несвойственным для него образом. Коснулся пальцем спины одного, потом другого, произнес, сконфуженно хмыкнув:
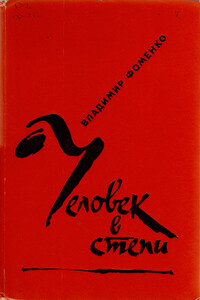
Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.Колхозники, о которых пишет В.

.В третий том входят повести: «Смерть Егора Сузуна» и «Лида Вараксина» и роман «И это все о нем». «Смерть Егора Сузуна» рассказывает о старом коммунисте, всю свою жизнь отдавшем служению людям и любимому делу. «Лида Вараксина» — о человеческом призвании, о человеке на своем месте. В романе «И это все о нем» повествуется о современном рабочем классе, о жизни и работе молодых лесозаготовителей, о комсомольском вожаке молодежи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ о последних днях двух арестантов, приговорённых при царе к смертной казни — грабителя-убийцы и революционера-подпольщика.Журнал «Сибирские огни», №1, 1927 г.
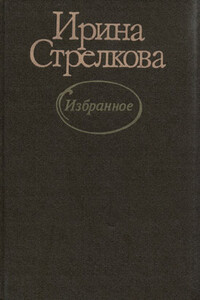
«— Священника привези, прошу! — громче и сердито сказал отец и закрыл глаза. — Поезжай, прошу. Моя последняя воля».

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
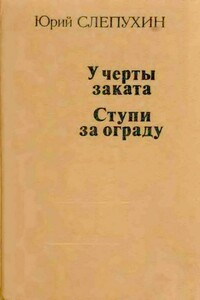
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.