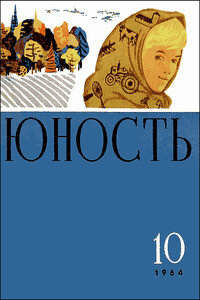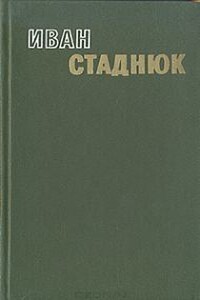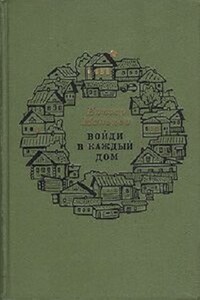К ним в то время назначили новую учительницу литературы, вольнонаемную, впрочем, как и большинство учителей. Александрова Галина Дмитриевна, если полностью, но учащиеся звали ее между собой — Гала. Это была не кличка, а просто нормальное ее имя, ведь, в сущности, и по возрасту и по виду она была не важная Галина Дмитриевна, а молодая девушка — Гала.
Держала она себя довольно уверенно и свободно, отчего многим в классе показалась исключительно нахальной. Дело в том, что в колонии привыкли к другим формам обращения: к настороженно-опасливому и оттого, несмотря на металлические ноты, робкому тону или к назидательному, резко-приказному, когда даже в короткие часы школы тебе не дадут забыть, кто ты такой есть. Часто шло это не от характера преподавателя, а от класса, от этих людей, которые даже при самом спокойном к ним отношении никак не хотели превращаться хотя бы на сорок пять минут в более или менее нормальных учеников. Нелегко было там учиться, а еще труднее было там учить.
Гала преподавала одновременно русский язык, литературу и историю. Она, видно, недавно закончила институт, память ее не замусорилась житейскими делами и была исключительно свежа, и она сыпала наизусть множеством цитат из великих людей, датами исторических событий, стихами русских поэтов по курсу восьмого класса.
Казалось, она никого не боится. Это не всем нравилось.
В ней были азарт и молодость, и если уж она хотела кого посадить на место, «пришпилить», то делала это от души, без криков, не выгоняя из класса, а ехидным словцом, с шуточкой или ледяным равнодушием. Она всегда со сдерживаемым, но страстным азартом вкладывала всю себя в любой, даже маленький поединок с учениками. Иван придумал ей кличку, но втихую, для одного себя, не обнародывая перед дружками. Он звал ее про себя «гражданка Бугримова». Потому что так или иначе, а была она в первую очередь не учительницей старших классов, а укротительницей диких зверей, и в ее деле главное было, чтобы они послушно сидели на тумбах.
Ивану она попеременно то нравилась, то неимоверно его раздражала. Нравилось, как она, надменно усмехаясь и не перебивая, слушает глупости учеников, чтобы потом с блеском в глазах, ледяным тоном отбрить кого-нибудь из них, нравилось, как с нескрываемым счастьем слушает хороший ответ («алле гоп, молодец Акбар, получишь кусочек свежего мяса»), нравилась ее челочка и то, что всегда она была свеженькая, гладенькая, чистенькая, и то, что туфли ее, несмотря на осеннюю грязь в зоне, блестели и были такими же, какие носили в то время в Москве, а может, и в Париже (если носили на тонком каблуке, то и у нее тонкий, если на толстом, то и у нее такой же). Иван, правда, не знал, что носят в Москве, но чутье ему подсказывало: укротительница не отстанет от всего нового, передового. Нравилось и то, как она читает стихи, чуть нараспев, с особой такой тихой задумчивостью, с влажными глазами, будто она сама по меньшей мере их написала. Нравилась и маленькая рука, самозабвенно сжимавшая мелок и нервно, напряженно-страстно стучащая этим мелком по доске; это напоминало морзянку или шифр через стену камеры: удар, тире, пауза, удар, тире, цок, цок, по черной, мутной от меловой пыли доске, цок, цок — вперед, вперед, к свету, к знаниям, к чему еще?
Вот это и нравилось и раздражало.
Уж слишком она старалась, будто и вправду от этого что-то в их жизни изменится, уж слишком, сама того не замечая, подчеркивала пропасть между ее двадцатью тремя годами и их таким же или более почтенным возрастом. Ее жизнью, в которой были экзамены, семинары, отметки, знания, диплом, и их, в которой были следствия, суды, пересылки, КПЗ, новые сроки, побеги, УК РСФСР, УК союзных республик, знания, знания…
Уж больно ярко сверкают эти нарядные ножки в изогнутых туфлишках — каким-то нейлоновым струящимся светом другой планеты, Марса, а может быть, Венеры.
И низкий ее голос, самозабвенно читающий:
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
«Куда, куда ты тащишь меня, — женский голос, чуть с хрипотцой и низкий, но женский, такой женский, что сердце останавливается, какая еще есть дорога на земле, которая не пылит, и зачем эти обманные, вкрадчивые, полушепотком, слова?.. «Подожди немного»… А чего мне ждать? »
Все это будоражило Ивана, так жестоко ударяло по мозгам, что его симпатия к ней и даже некоторое уважение, которое она ему внушала, вдруг выливались в острую неприязнь, почти ненависть. «К чему мне эта отрава, эти баюкающие стишки? — думал он. — Чтоб в петлю полезть? Нет уж, тут не цирк, нечего показывать фокусы. Не утешай меня без нужды, женщина, не усыпляйте, гражданка, нашу бдительность. В этом кипучем мире и в этом отдаленном, богом забытом уголке нужна бдительность, бдительность и еще раз бдительность».
Однажды после ее уроков Иван взял в библиотеке томик Лермонтова из собрания сочинений и нашел там такое стихотворение:
Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни, будто годы;
И окно высоко над землей.
И у двери стоит часовой!
Умереть бы уж мне в этой клетке,