Отморозки: Другим путем - [33]
Пан Балицкий лично вышел навстречу господину Ципсеру и лично сопроводил его в залу, где и занял приятной беседой. Впрочем, ненадолго: подъехали еще гости, грянул оркестр, и по зеркальному паркету закружили первые пары. Пан Балицкий угостил генерала Ципсера старым коньяком – ровесником победы германского оружия под Мецем и Седаном, и поинтересовался насчет поставок для нужд армии хлеба, сала и фуража. Ципсер благосклонно пообещал составить протекцию гостеприимному хозяину и свести с нужными людьми из интендантуры.
Юстыся Балицкая танцевала с офицерами, пленяя их своими грацией, красотой и легкостью манер, но одновременно шокируя своими мыслями о некоей непонятной «независимости» мифической Польши.
– Разве вы не понимаете, герр обер-лейтенант, что поляки должны быть свободными? – с жаром наседала она на своего кавалера, гвардейца фон Рауха. – Свобода – неотъемлемая часть самосознания любого поляка!
– Но, мадемуазель, почему же только поляка? – сопротивлялся фон Раух, который в бытность свою студентом в Геттингене близко сошелся с анархистами. – Свобода – для всех. Почему вы выделяете поляков?
Задавая этот вопрос, он аккуратно сместил руку с талии обольстительной националистки на… в общем, чуть-чуть пониже…
– Потому что поляки достойны ее больше всех! – обдавая офицера ароматом французских духов, с жаром вещала патриотка, не обратив внимания на маневры его руки. – Разве вы не согласны?
Обер-лейтенант сдвинул руку еще ниже, ощутил приятную упругую округлость и согласился с доводами возмутительницы спокойствия. Ободренная этим, Юстыся продолжила убеждать немца в богоизбранности польского народа и необходимости немедленного создания польского государства. Фон Раух переместил прекрасную пропагандистку за портьеру, к окну, и принялся подтверждать каждое слово польской Боудикки[47] страстным поцелуем.
Бал шел своим чередом. Уже напился пан Туск и теперь с пьяной самоуверенностью разглагольствовал о том, что вся Европа должна объединиться и поставить Россию на место, уготованное ей самой историей – место прислужницы Польши. Уже пани Туск исчезла куда-то вместе с майором Лампрехтом. Уже Крыся Смолецкая уловила в свои сети сразу троих молодых офицеров из штаба корпуса и теперь флиртовала со всеми тремя одновременно…
Оркестр старался вовсю. Вальс сменял падеспань, мазурка – вальс, и кружились, кружились пары. Гости постарше уютно устроились за ломберным столом и уже чиркал по сукну мелок, отмечая взятки и робберы… Ах, господа, какая война? Война – это там где-то, где кровь, грязь и смерть. Да и какое дело цивилизованным людям до какой-то войны? Война меняет границы, но не меняет Европы. Ведь мы все европейцы, господа, не так ли?..
…Чапаев осторожно тронул штабс-капитана за рукав:
– Вашбродь, там праздник какой-то…
– Что празднуют? – машинально спросил Львов, но тут же поправился: – Народу много?
– Много… Во дворе – тринадцать солдат да четыре мотора[48]. Еще кареты стоят…
– Ага, – скривился Львов. – Значит, кому – вой на, а кому – мать родна? Сволочи…
– Сволочи и есть, – согласился Чапаев. – Режем?
– Осторожно бы надо, – подумав, сказал штабс-капитан. – И парочку – живьем, на предмет поговорить.
– Эт мы чичас, эт мы мигом… Петров, Семенов, Елизаров – к командиру живо!..
Скучавшие солдаты не заметили, как к дому с разных сторон подобрались невидимые и неслышные тени. Мягкие прыжки – по совету штабс-капитана все уже давно научились обматывать форменные сапоги мягкой кожей и фиксировать ее ремнями – и немцы рухнули под ударами кинжалов. Двоих били рукоятями ножей и тесаков, а потом быстро-быстро скрутили позаимствованными в конюшне имения вожжами. Мигнул трофейный электрический фонарик – все чисто.
Львов с остальными появился во дворе особняка Балицких через несколько минут. Огляделся, снова подозвал Чапаева:
– Приберитесь тут, а потом…
Не докончив фразу, он резко пригнул Василия за стоящий автомобиль и сам спрятался там же. Из стеклянных, залитых светом дверей вышел офицер.
– Курт! Садись в автомобиль и съезди в город! Привези мне цветов! Красивых… Курт! Ты где?! Опять надрался, пьяная скотина?!! – офицер сделал несколько шагов с крыльца и завертел головой, ослепленный резким переходом из света в тьму. – Курт! Немедленно ко мне! Ну, погоди…
Больше сказать он ничего не успел. Львов перекатился под машиной, резко захватил горло немца на удушающий «неразрыв» и завалил на себя. Слабый хрип, короткое дерганье…
– Этого пакуйте, а одного из языков можете кончить. Все равно, с собой брать не будем.
Ефрейтор Семенов нагнулся и равнодушно полоснул одного из связанных немцев по горлу трофейным тесаком. Второго подхватили под мышки и потащили прочь от освещенного дома, где гремела музыка и слышались веселые голоса. Никто из гостей и хозяев еще ничего не знал.
– …Вы готовы отвечать? Если «да», кивните.
Очумевший от боли обер-лейтенант фон Раух судорожно кивнул.
– Карп, рот ему освободи и будь наготове.
Унтер-офицер кивнул, а Львов снова перешел на немецкий:
– Если попробуете кричать в расчете на легкую смерть, предупреждаю заранее: легко уйти у вас не получится. Заткнем рот, кастрируем, ослепим, отрежем язык и остальные пальцы на руках, и оставим. Всю жизнь будете жить во тьме и молча, мучаясь от собственного героизма. Это доступно?

Когда всё вокруг чужое, когда уже нет места сомнениям и нужно идти вперёд, он пройдёт там, где до него сдохли многие крутые парни, и он точно знает что делать с любой стороны от дульного среза и пробьёт путь там, где его не может быть. Потому что он мастер дорог.

Так непросто шагнуть через тысячи световых лет, через бездну, для которой ты даже не песчинка. Но сделать шаг нужно. Потому что есть те, кто в тебя верит, и те, кто от тебя зависит, и даже те, кто хочет, чтобы ты сдох. А ты, просто солдат огромной и очень холодной страны, где точно знают цену жизни.

Жизнь российского офицера, распланированная до мелочей, меняется с переходом в другой мир, и прежней уже не будет никогда. Взойдя по лестнице миров до первого серьёзного барьера, он должен показать что достоин стать богом. А вот каким, жестоким или всепрощающим, решит только он сам.

Он сделает то, что не сможет никто. Он сделает то, о чем никто не мечтает, и даже то, о чем никто не догадывается. Он – эксперт по выживанию.

Второй роман цикла «Офицер».Он — бывший ликвидатор и служащий Гохрана. Он знаком со смертью не на словах, и он просто офицер. Человек чести и долга. Перед страной, людьми и памятью предков. И это мы вместе с ним ищем в прошедшем времени опору, дабы не оступиться в дне сегодняшнем. И найти ответы на вопросы, которые уже решили наши деды и прадеды.

Он – бывший ликвидатор и служащий Гохрана. Он знаком со смертью не на словах, и он просто офицер. Человек чести и долга. Перед страной, людьми и памятью предков. И это мы вместе с ним ищем в прошедшем времени опору, дабы не оступиться в дне сегодняшнем. И найти ответы на вопросы, которые уже решили наши деды и прадеды.

Что случится, если высокоразвитые пришельцы посетят молодую цивилизацию? Жители Шенивашады знают ответ. Пришельцы поработят людей и станут известны как Владельцы. Однажды их свергнут. Но мир не получит покоя. Власть приберут к рукам тзай-тарры, ученики Владельцев. И время вновь замрёт на Шенивашаде. Но скоро всё изменится. Ведь уже открыл глаза после векового сна Эрклион Освободитель, легендарный победитель Владельцев. И очень удивился, обнаружив себя не в спальне дворца, а в тёмном подземелье.открыть Знакомьтесь, Шенивашада — одна и жемчужин нашей Мультивселенной.

До пандемии это был замок, старинное жилище европейского рода. Теперь правительство разместило здесь реабилитационную школу для зараженных и жертв Чипаколипсиса. Служащие школы подвергаются опасности — зловещий вирус по-прежнему действенен. «Рваная грелка-2017», весна.

Сомали, Могадишо. Город, который наполовину контролируют пираты, а наполовину – боевики Исламских судов. Сорок лет в нем не прекращается война. Город лежит в руинах, в которых три миллиона человек пытаются как-то выжить. Группа британских спецназовцев, работающая вместе еще с Ирака – пытается убрать лидера крупнейшей в регионе банды пиратов. Только они и не подозревают, что местная резидентура ЦРУ связана с пиратскими бандами. Им предстоит выполнить задание и постараться выбраться из города до того, как по нему наносят ядерный удар.
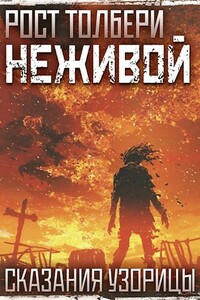
— Центральный персонаж — монстр, отчаянно стремящийся стать человеком. — Тёмное фэнтези без извращений. Магия, заговоры и древние тайны. — Солнечный и славянский сеттинг. Проработанный, логичный и развитый. — Конечно же, ВОЙНА и сражения мастеров, отчаянные и стремительные. — Много героев, правда они быстро умирают от рук центрального персонажа. — Первый том из трёх. Будет ещё.

Задание выполнено и боги-искины торжествуют, но какие последствия будут ждать наш мир, и чего на самом деле хочет Корпорация? Как всегда, ответы придётся искать Рыцарю Смерти Скомороху и его соратникам. Но соратникам ли?..

Категория: гет, Рейтинг: PG-13, Размер: Макси, Саммари: Принцесса Китана была готова на любую жертву ради спасения других миров от судьбы, постигшей Эдению. Или ради себя и своей мести.

Ну, вроде прижился. И даже умудрился начать кормить семью. Но как всегда, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. В преддверии войны в тайге у станции начало твориться что-то странное и страшное, и разбираться с этими неприятностями придётся именно ему. Человеку, случайно оказавшемуся в этом мире и в этом теле…

Вроде всё получается, и он даже сумел заслужить среди местных какое-то уважение. Даже своя семья появилась. Вроде бы живи и радуйся, ведь у него теперь есть всё, о чём только может мечтать обычный человек, но снова, как и всегда, в жизненные планы вмешивается проза жизни. Война, которую он ждал, началась, а вместе с нею начались и новые проблемы…

Многое рассказывают о них. Что и воины они великие, что и смерти не боятся, что… Но вот что из этого правда, знают только они сами. Казаки. Те, кого называют вольным воинством. Те, кто служит не правителям, а родине, и испокон веков хранят свою землю от любого врага…
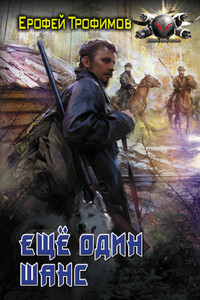
В свои шестнадцать он прославился на всю округу как лучший следопыт. А ещё как механик-самородок, умеющий придумывать новые машины. А на самом деле в теле юного охотника оказался сорокалетний мужик из другого времени и другого мира. И вот теперь он вынужден скрывать свои знания и умения, пытаясь прижиться в новом для себя теле. Ведь всё, что его теперь окружает, он знает только по книгам и фильмам. А тут и настоящие хунхузы, готовые ограбить и убить зазевавшегося путника, и ханты, живущие своим миром и охраняющие границу империи, и дворяне, которым положено кланяться, снимая шапку.