От рук художества своего - [147]
Ну, вражья утроба, сиятельнейший палач господин Ушаков, неужто не клюнешь на мою приманку? Быть не может. Ведь каждому известно, что идея величия греет низкие души больше, чем возвышенные. Это так. Предположим, что он мое предложение отвергает… Значит, они взяли надо мной верх. Изломали всего, отбили нутро, помутили разум. И разлучили навек мои руки с художеством… Почти что отняли жизнь, отбросили от живописи… Но я еще живой, живой. Бог еще не лишил меня… Живопись — живое письмо о живом, я свое последнее письмо еще не послал…"
— Ежели на то милость ваша будет, то покорнейше прошу об одном, — сказал на очередном допросе Иван Никитин генералу Ушакову, — велите дать мне, ваше высокое державство, холста, кистей, красок и подрамник, а я в самом добром художестве, как во времена Петра Великого, блаженной и вечнодостойной памяти императора, вашу персону намалюю.
Тучный Ушаков ушам своим не поверил. Остолбенел от неожиданного предложенья.
Его обычно желтое лицо с красными старческими прожилками побагровело. Он подумал, что, видимо, Никитин, который до сих пор ни о чем не просил даже из-под пыток, слегка рехнулся. Пытливо, безотрывно и долго разглядывая живописца-колодника, Ушаков отмел свое предположение.
Теперь взгляд у Никитина был иным: ясным, твердым, непреклонным. Это был взгляд вызова и последнего отчаяния.
На несколько минут злобная подозрительность завладела Ушаковым, создавая в нем страшное напряжение. "Его ничем нельзя было сломить, — раздумывал генерал, — и вдруг… Что он задумал, на чем хочет поймать и провести… В прежние времена никто из этих пачкунов не хотел с меня списывать портреты. А сколько разов я к ним обращался?.. Андрей Матвеев сказывался больным. Каравакке не дозволяли отвлекаться от царских заказов. Эти Никитины — и Иван и Роман — держались независимо и надменно. Ну, маленько они оба у меня поостыли. И все же: что он удумал? Что просить станет взамен своей услуги? За кого хлопотать? Пожалуй, это скоро разъяснится… Обождем, не к спеху".
Иван Никитин, глядя на Ушакова, забыв о боли в теле, веселился от души. Он думал: "Не до конца, не до конца взяли вы верх, коли эта крыса, палач и головорез стал в тупик и так долго соображает. Прикидывает. Сопоставляет. Выстраивает по порядку. Давай-давай, гад, тебе не вредно! Увечить ты можешь хорошо, больные места знаешь, обучился на наших шкурах, А ты хоть раз подумай, чтоб тебе издохнуть сей же момент! Господи, не осуди меня за невольничью злобу".
Ушаков раздумывал и так и этак. Его это утомило. Всем нравом своим он расположен был к тому, чтобы не попадать впросак, не уступать врагу ни в чем. А врагов у него было на великой Руси такое множество! Да что там — каждый живой был ему враг, который подло и коварно мог сделать его самого жертвой невинной. А разве каратель и жертва могут ужиться в одной ипостаси? Как мыши в темноте, бегали мысли в голове Ушакова.
Ушаков устал. Игра ему надоела.
"Клюнул! Клюнул! Клюнул!" — Никитин видел, что попал в точку. Руки у него подрагивали.
— Ты, Никитин, задумал что-то, об этом поговорим… Однако ты не крути! Соизволь прямиком…
— Для себя ни малой пользы. Я прямиком, ваше держав-ство!
— Уж я тебя изучил. Знаю. Потому и говорю. Изображенье лица моего списать для потомства еще до кончины моей… Лестно. Но для чего это ты удумал? Пока не ведаю. А как же… — генерал ткнул толстым пальцем в сторону рук Никитина, бессильно свисавших на подвязанных к шее грязных подвязках.
— Не благоволите тревожиться, ваше державство. Я вот как буду малевать… Художник сделал шаг к столу и с трудом стал приподнимать левую руку, положив ладонь под локоть правой и поддерживая ее. Он сжал зубы, чтобы не застонать, и приподнял теперь уже обе руки почти до уровня глаз. — Вот, ваша милость, извольте убедиться сами… — Испарина выступила на лбу Никитина. Но плечевую боль он кое-как осилил.
Ушаков посмотрел в глаза Никитину, кивнул головой.
— Вижу, вижу… — Он хотел что-то еще спросить, но сдержался, недоуменно развел руками, как бы рассуждая сам с собой. Ясно было одно: талант и мужество этого человека выделяют его из простых смертных.
Голодный, обносившийся, бледный Иван Никитин давно уже спутал день с ночью. Были допросы, пытки, снова допросы. Потом время, когда можно перевести дыхание. Набраться стойкости для новых встреч с Ушаковым. И после всего этого Никитин теперь нашел в себе силы улыбнуться.
Он видел, что в мозгу генерала кипит его предложение — нежданное, странное, крутое. И ликовал.
А Ушаков сидел за столом, опустив голову. А когда вскинулся и взглянул на художника, Никитин смотрел на него привычно-открыто, честно, упорно и — выжидательно.
На серо-желтом, опухшем лице Никитина не было и тени улыбки, он только щурился от рези в глазах, привыкших к темноте.
"Пойду в открытую, сразу и скажу свое условье, пусть обрадуется от простой разгадки, — подумал Никитин. — Ухватится! Теперь я его из равновесия вывел, выскажу открыто, как есть!"
— Ваше державство, был я спрашиван вами, нет ли какого подвоха или мерзости в моем предложенье касательно портрета… В жизни слукавить можно. А живопись — она хитрости не терпит… У меня одна нижайшая просьбица… — Говорил Никитин с трудом. Разбитые губы плохо слушались. — Брат мой, расстрига Иродион, изобличает под пыткой совсем невиновных. А Роман голода не выносит. У Иродиона в голове жар. Он сам уже не ведает — что сущая правда, а что ложно… Во свидетельство его показаний многие вами допрашиваемы, и впредь то же будет. Родион называет всех подряд, кого вспомнит… Из церкви Живоначальные троицы, что за Арбатскими воротами, попа взяли, дьякона и сторожа, из церкви Иоанна Предтечи також попа, из Соляной конторы канцеляриста, из Старого Конюшенного двора, что на Пречистенке, — двоих, из Московской губернской канцелярии помощника прокурора… А люди сии ни винами, ни родством, ни свойством отношенья к нашему делу не имеют. От мучений братец мой скоро и в полицеймейстерском управлении кого припомнит знакомого — так и там будут брать… Никак невозможно стерпеть мне, ваша пресветлая милость, что, по слабости брата, людей, не ведающих ни о чем, объявляют государевыми преступниками. Брат в страхе, в беспамятстве пребывает. Потому челобитье мое нижайшее: учините приказ — кормить Романа и освободить Родиона от пыток! Что толку от ложных его показаний? Правды в них — кот наплакал.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
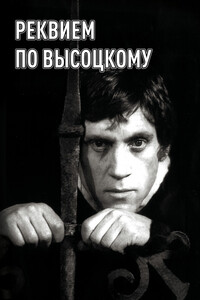
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.