От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера - [97]
Вы действительно этим довольны? Разве это не самый ограниченный, самый старообразный материализм? Он умел декламировать перед толпой, но не спорить.
— Я — материалист! Футуризм — материалистичен! — Мы расстались сердечно, но он стал настолько официальным, что я больше не виделся с ним, и друзья юности тоже оставили его.
Я больше не виделся и с Горьким, вернувшимся в СССР ужасно переменившимся. Мои близкие родственники, знавшие его с юности, перестали общаться с ним с того дня, когда он отказался выступить в защиту пяти приговоренных к смерти по Шахтинскому делу. Он писал плохие статьи, полные режущих софизмов, оправдывая чудовищные процессы советским гуманизмом! Что происходило в его душе? Нам было известно, что он продолжает брюзжать, раздражителен, что обратная сторона его суровости — протест и страдание. Мы говорили друг другу: «Однажды он взорвется!» И он действительно, в конце концов, незадолго до своей смерти разругался со Сталиным. Но все его сотрудники по «Новой жизни»[1-325] 1917 года исчезали в тюрьмах, а он ничего не говорил. Литература гибла — он молчал. Я случайно увидел его на улице. Один, откинувшись на заднее сиденье «линкольна», он показался мне отделенным от улицы, от московской жизни, сведенным к алгебраическому символу самого себя. Он не постарел, но похудел, высох, с бритой костистой головой, покрытой тюбетейкой, с заостренными носом и скулами и запавшими как у черепа орбитами глаз. Аскетичный, бесплотный персонаж, в котором живо лишь стремление существовать и мыслить. «Возможно ли такое, — задавался я вопросом, — чтобы на шестидесятом году жизни человек высох, стал бесплотным, окостеневшим, как глубокий старик?» Эта мысль настолько поразила меня, что годы спустя, в Париже, когда семидесятилетний Ромен Роллан последовал точно по такому же духовному пути, что и постаревший Горький, меня необъяснимым образом утешили человечность и ясность Андре Жида, порадовала цельность Джона Дьюи. После этой встречи я попытался увидеться с Алексеем Максимовичем, но его секретарь (из ГПУ), здоровенный тип в пенсне, ничтожество с донельзя подходящей фамилией Крючков, закрыл передо мной дверь. (Крючков был расстрелян в 1938 году.)
Борис Андреевич Пильняк писал «Волга впадает в Каспийское море»… Я видел на его рабочем столе рукописи, которые он правил. Чтобы сберечь его для советской литературы, ему рекомендовали переработать «Красное дерево», эту «контрреволюционную» повесть, в роман, который ЦК мог бы одобрить. Культурный отдел ЦК прикрепил к нему сотрудника, и тот страница за страницей указывал, что убрать и что добавить. Сотрудника звали Ежов, его ожидал взлет судьбы и насильственная смерть: это был преемник Ягоды на посту руководителя ГПУ, расстрелянный, как и его предшественник, в 1938 или 1939 году. Пильняк кривил большой рот: «Он составил мне список из пятидесяти отрывков, которые следует полностью изменить!» «Ах! — восклицал он. — Если бы я мог писать свободно! Что бы я создал!» Порой я заставал его охваченным хандрой. «Они, в конце концов, бросят меня в тюрьму… Как вы думаете?» Я его подбадривал, объясняя, что защитой ему служит известность в Европе и Америке; какое — то время я оставался прав. «Есть ли хоть один мыслящий взрослый человек в этой стране, — говорил он, — который не боялся бы расстрела…» И расписывал мне подробности казней, о которых узнал, выпивая с палачами. Он написал жалкую статью для «Правды» о процессе технических специалистов, получил в результате личного вмешательства Сталина загранпаспорт, посетил Париж, Нью — Йорк, Токио, возвратился к нам в английском шевиоте, с подаренной ему небольшой машиной, в восторге от Америки; он говорил мне: «С вами покончено! Конец революционному романтизму! Мы вступаем в эру советского американизма: техника и практичная основательность!» По — детски счастливый своей знаменитостью, своими материальными приобретениями… В 35 лет, имея за собой такие книги, как «Голый год», «Иван — да — Марья», «Машины и волки», пользующийся любовью и признанием в России, благоволением сильных мира сего — он был высок, длинноголов, с резко очерченными чертами лица скорее германского типа, очень эгоистичен и человечен. Его упрекали в том, что он не марксист, а «типичный интеллигент» в своем национальном и крестьянском видении революции, в том, что инстинкт у него превалирует над разумом… Незадолго до моего ареста мы вместе долго ехали на машине по заснеженной, сияющей на солнце равнине. Неожиданно он притормозил и повернулся ко мне, взгляд его помрачнел: «Уверен, Виктор Львович, что и я однажды пущу себе пулю в лоб. Может быть, это лучшее, что мне остается сделать. Я не могу эмигрировать, как Замятин. Я не смог бы жить вне России. И у меня такое чувство, будто шайка негодяев держит меня на мушке…» Когда я был арестован, у него достало мужества обратиться с протестом в ГПУ. (Он исчез совершенно загадочным образом, без процесса, в 1937 году; один из двух — трех подлинных творцов советской литературы, великий писатель, переведенный на десять иностранных языков, исчез, и никто в Старом и Новом свете — кроме меня, но мой голос был заглушен — не поинтересовался его участью!) Один критик заметил, что его произведение, переработанное совместно с Ежовым, «выкрикивает ложь и шепчет правду».

История СССР часто измеряется десятками и сотнями миллионов трагических и насильственных смертей — от голода, репрессий, войн, а также катастрофических издержек социальной и экономической политики советской власти. Но огромное число жертв советского эксперимента окружала еще более необъятная смерть: речь о миллионах и миллионах людей, умерших от старости, болезней и несчастных случаев. Книга историка и антрополога Анны Соколовой представляет собой анализ государственной политики в отношении смерти и погребения, а также причудливых метаморфоз похоронной культуры в крупных городах СССР.

В брошюре представлены ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые советскими и иностранными журналистами при посещении созданной вокруг Чернобыльской АЭС 30-километровой зоны, а также по «прямому проводу», установленному в Отделе информации и международных связей ПО «Комбинат» в г. Чернобыле.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
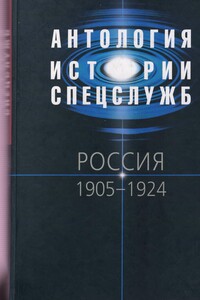
Знатокам и любителям, по-старинному говоря, ревнителям истории отечественных специальных служб предлагается совсем необычная книга. Здесь, под одной обложкой объединены труды трех российских авторов, относящиеся к начальному этапу развития отечественной мысли в области разведки и контрразведки.
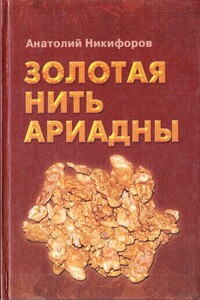
В книге рассказывается о деятельности органов госбезопасности Магаданской области по борьбе с хищением золота. Вторая часть книги посвящена событиям Великой Отечественной войны, в том числе фронтовым страницам истории органов безопасности страны.

Предлагаемая вниманию советского читателя брошюра известного американского историка и публициста Герберта Аптекера, вышедшая в свет в Нью-Йорке в 1954 году, посвящена разоблачению тех представителей американской реакционной историографии, которые выступают под эгидой «Общества истории бизнеса», ведущего атаку на историческую науку с позиций «большого бизнеса», то есть монополистического капитала. В своем боевом разоблачительном памфлете, который издается на русском языке с незначительными сокращениями, Аптекер показывает, как монополии и их историки-«лауреаты» пытаются перекроить историю на свой лад.