От Пушкина до «Пушкинского дома» - [3]
>2 Этот «миф» подробно исследован в кн.: Багно В. Е. Дорогами «Дон Кихота». М.: Книга, 1988, а также в его новейшем труде: «Дон Кихот» в России и русское донкихотство. СПб.: Наука, 2009. Бытованию образа Дон Кихота в русском культурном сознании посвящено публицистическое сочинение Ю. А. Айхенвальда «Дон Кихот на русской почве» (Т. 1–2. М.; Минск, 1996). Своего рода иллюстрацией к книге Айхенвальда может служит книга «Он въезжает из другого века… Дон Кихот в России». Сост. Л. М. Бурмистрова. (М.: ВГБИЛ, 2006). Новые материалы, касающиеся бытования образа Дон Кихота в Совет ском Союзе, содержатся в кандидатской диссертации Т. Г. Артамоновой «Рецепция сюжета о Дон Кихоте в русской литературе 1920—1930-х годов» (Екатеринбург, 2006).
>3 См. Alter R. Partial Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre. University of California Press. Berkley; Los Angeles; London, 1975. Наиболее удачный перевод названия книги Алтера, перефразирующего название новеллы Х. Л. Борхеса – «Magia parcial en el Quijote» – тот, что был предложен для Борхеса Е. М. Лысенко: «Скрытая магия» (в «Дон Кихоте»).
>4 «Сознающий себя» литературный дискурс под обозначением «литературоцентричный» стал предметом интереса и русской науки 2000-х годов. См.: Хатямова М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века. М.: Языки славянской культуры, 2008. Здесь же – библиография по теме, к сожалению, не учитывающая книгу Алтера: М. А. Хатямова считает, что приоритет в теоретической разработке проблемы литературного самосознания принадлежит Д. М. Сегалу (цитируется статья последнего 1979 года), несомненно, прекрасно знакомому с трудами американского ученого.
>5 Автором термина «Metafiction» является W. Gass. Однако ввел его в широкий критический обиход Р. Скоулс (см.: Scoules R. Fabulation and Metafiction. University of Illinois Press. Urbana; Chicago; London, 1979; первое издание – 1970).
>6 Термин Л. Е. Пинского. См.: Пинский Л. Е. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация // Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М.: Художественная литература, 1961.
>7 Прилагательное «донкихотовский» (-ая, – ое) мы, как правило, образуем от названия романа, «донкихотский» – от имени героя, хотя тот же Л. Е. Пинский, да и другие критики, их используют как синонимы. Впрочем, на строгом различении двух обозначений и мы не настаиваем.
>8 Это понятие обосновано Г. С. Морсоном. См.: Morson G. S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Austin: University of Texas Press, 1981.
>9 См. главу «"Дон Кихот" – I: динамическая поэтика» в кн.: Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. М.: Высшая школа, 2009.
>10Durán М. La ambigüedad en el «Quijote». Xálapa: La Universidad Veracruzana, 1960.
>11 Следующие за ним (как создателем «Творимой легенды») Евг. Замятин и М. Булгаков, как нам представляется, приблизятся к этой черте, но ее не перейдут. Более того: Булгаков – ближе к концу жизни и к концу своего «закатного» романа – от нее явно отступит!
>12 Поднявшись (в «Восьмой главе») к высшей точке своего самосознания, Онегин, тем не менее, «не сошел с ума» (как и «не сделался поэтом»).
>13 См.: Reed W. L. An Exemplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1981.
>14 См. о нем в главе «Русский роман как сюжет исторической поэтики».
>15 См.: Cascardi A. The Bounds of Reason: Cervantes. Dostoevsky. Flaubert. New York: Columbia University Press, 1986.
>16 Эта работа во многом осуществлена В. Е. Багно (см.: Багно В. Е. Указ. соч.).
>17 См.: Grachiуva A. El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y los experimentos novelescos de A. Rйmizov en los aсos 30 del siglo XX // Lecturas cervantinas. 2005. San Petersburgo, 2007.
>18 Структурное сходство «Лолиты» и «Дон Кихота» замечено Г. Дэвенпортом, автором «Предисловия» к американскому изданию «Лекций о „Дон Кихоте“» (1983), далее цитируемых по русскому переводу (М.: Независимая газета, 2002).
>19 См.: Липовецкий М. Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–2000 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
>20 «Прочитав эти лекции, мне так захотелось перечитать „Дон Кихота“!» – восклицает писатель в небольшом эссе «Музыка чтения», которое предваряет русское издание набоковских «Лекций по зарубежной литературе» (М.: Независимая газета, 1998), включающее – в качестве приложения – сокращенную версию «Лекций о „Дон Кихоте“» (есть и указанный выше полный русский пере вод).
Русский роман как сюжет исторической поэтики
В ситуации кризиса как истории, так и теории литературы>1, историческая поэтика является, на наш взгляд, одним из немногих путей развития литературоведения на почве собственно филологической традиции. На почве искусства слова, не растворенного в «гуманитарном знании» или «дискурсивных практиках». Однако, как отмечает С. Г. Бочаров, в России «история античной и западных европейских, а также восточных литератур оказалась более активным полем… выращивания» «нового теоретического знания» в лице исторической поэтики, «чем история русской литературы»

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.
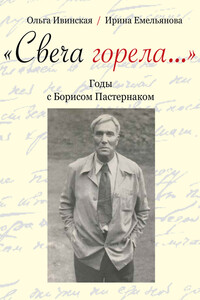
«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».
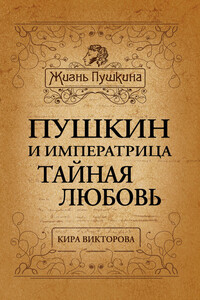
Автор этой книги, написанной как захватывающий детектив, задался целью раскрыть имя женщины, которая господствует во всем поэтическом творчестве великого поэта, начиная с лицейских лет, до его гибели. Пушкиновед Кира Викторова впервые заявила о том, что у Пушкина была единственная муза и тайная любовь – императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. Знаменитый же «донжуанский список» Александра Сергеевича, по ее версии, – всего лишь ерническое издевательство над пошлостью обывателей.Любил ли Пушкин одну Елизавету Алексеевну, писал ли с нее Татьяну Ларину, была ли императрица для него дороже всех на свете или к концу жизни он все-таки предпочитал Наталию Гончарову… – решать читателю.
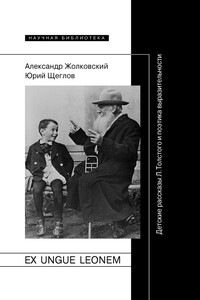
В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.
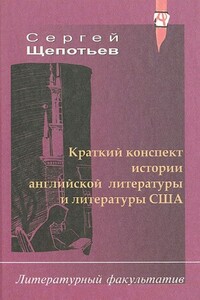
Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.
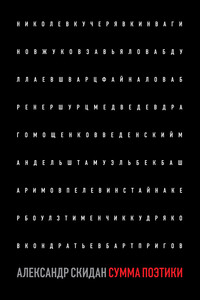
В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

Первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. В книге рассмотрены различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается также критический анализ японских работ по соответствующей тематике. Особо рассмотрены, в частности, проблемы роли английского языка в Японии и заимствований из этого языка, форм вежливости, особенностей женской речи в Японии, иероглифов и других видов японской письменности.
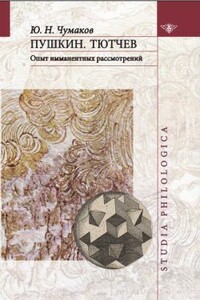
В книге рассмотрен ряд текстов Пушкина и Тютчева, взятых вне сравнительно-сопоставительного анализа, с расчетом на их взаимоосвещение. Внимание обращено не только на поэтику, но и на сущностные категории, и в этом случае жанровая принадлежность оказывается приглушенной. Имманентный подход, объединяющий исследование, не мешает самодостаточному прочтению каждой из его частей.Книга адресована специалистам в области теории и истории русской литературы, преподавателям и студентам-гуманитариям, а также всем интересующимся классической русской поэзией.
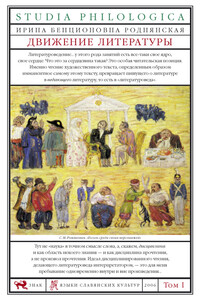
В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Макании, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).
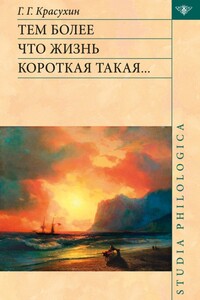
Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране.