От Пушкина до «Пушкинского дома» - [2]
Но во всех случаях, уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказывался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций (каковой по сути является и сам жанр романа). И если в каких-то случаях, исследуя сервантесовское начало в конкретном произведении, нам представлялось возможным иными его жанровыми «составляющими» пренебречь, то в других, идя по намеченному самим же романистом сервантесовскому «следу», например, «мифу о Дульцинее», вдохновлявшему Федора Сологуба, мы вдруг обнаруживали, что у создателя «Творимой легенды» был совсем иной непосредственный источник литературного вдохновения…
Поэтому читатель найдет в этой книге главы, в которых о романе «сервантесовского типа» почти ничего и не говорится… А речь идет о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе» (жанре, столь почитаемом в XVII–XVIII столетиях, у истоков которого – творение того же Сервантеса, его опубликованный посмертно роман «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (1617), об античном прообразе этого жанра – эллинистическом романе, о рыцарских романах позднего Средневековья и Возрождения, о французской психологической прозе и новоевропейской утопии, об эпистолярном романе раннего Нового времени и немецком «романе воспитания»…
В результате эта книга оказалась и «шире», и «уже» той, которая могла бы сложиться. Ведь, следуя методу историко-поэтологического ретроспективного анализа>14, сервантесовское начало можно найти и в «Шинели», и в «Преступлении и наказании»>15, и в «Под ростке», равно как в прозе Лескова>16, Алексея Ремизова>17, К. Вагинова, в «Даре» и «Лолите» Владимира Набокова>18… Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрея Белого, в России пореволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, в России изгнаннической – прозой В. Набокова, наглядно демон стрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным транформациям (с сохранением «донкихотовской» основы).
Мы решили поставить «условную» точку в своих разысканиях о значении романа «Дон Кихот» для русского романа на «Пушкинском Доме» Андрея Битова, с которым принято связывать начало русского «постмодернизма», хотя нельзя не согласиться с М. Липовецким в том, что этот самый русский «постмодернизм» мало чем от модернизма отличается>19. «Пушкинский Дом» – один из характернейших русских образцов «романа сознания», жанра, сложившегося в западноевропейской (Флобер) и русской (Достоевский) литературе еще в середине XIX столетия на скрещении по своей сущности антипсихологического романа «сервантесовского типа» и линии развития психологической прозы, более всего связанной с картезианской Францией.
В России советской, да и постсоветской, творение Сервантеса не стало тем, чем оно, в конечном счете, стало в мировой литературе – чтением для элиты, для писателей, которые, подобно Пьеру Менару Борхеса, читают-«переписывают» «Дон Кихота», чтобы еще и еще раз попытаться понять, «как делается роман» (название одного из творений М. де Унамуно). Андрей Битов, постоянно перечитывающий Пушкина и, хочется думать, перечитавший-таки «Дон Кихота»>20, – редкостное исключение. Но ведь и настоящего, смешного и печального, развлекательного и «метафизического» романа в России давно не появлялось.
В процессе работы над каждой из тем нам приходилось погружаться в научную проблематику, достаточно далекую от непосредственного предмета многолетних исследований – творчества Сервантеса. Но и при самом скрупулезном отношении к трудам ученых-предшественников, нами вряд ли могло быть учтено все написанное на интересующую нас тему даже на «день», точнее, по меньшей мере, на год, отданный разработке каждой из ее глав. Возвращаться сейчас к сделанному годы назад означало превратиться в змею, кусающую собственный хвост. Поэтому мы позволили себе лишь в самых необходимых случаях сделать смысловые уточнения и частично обновить цитируемую критическую литературу.
«Дон Кихот» 1605 года и «Дон Кихот» 1615 обозначаются в тексте книги как Первая и Вторая части (с прописной буквы), поскольку нумерация «частей» входит в полное наименование обоих романов: «Первая часть хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», «Вторая часть хитроумного кабальеро Дон Кихота Ламанчского».
>1 «Русский роман как сюжет исторический поэтики» – в «Вестнике Московского университета. Филология» (2004, № 6), «Дон Кихот» и «Евгений Онегин» – в «Университетском пушкинском сборнике» (М., 1999), «Капитанская дочка»: от плутовского романа – к семейной хронике» – в «Московском пушкинисте». XI (М., 2005), «"Мертвые души": от романа – к „поэме“» – в сборнике «Язык и культура. Факты и ценности. К 70-летию Ю. С. Степанова» (М., 2001), «Роман и риторическая традиция (случай Гоголя и Сервантеса)» (на исп. яз.) – в «Peregrinamente Peregrinos. Quinto Congreso Internacional de la Asociaciуn de cervantistas. V CINDAC, Lisboa, 1–5 de septiembre» (Alcalб de Henares, 2004), «"Донкихотская ситуация" в ранней прозе Достоевского» – в «Вестнике Московского университета. Филология» (2006, № 1), «Идиот» в зеркале «Дон Кихота Ламанчского» – в «Вопросах литературы» (2007, вып. январь-февраль), «Символистский роман: между мимеcисом и аллегорией» – в «Филологических науках» (2008, № 5), «Символистский роман и его истоки („Творимая легенда“ Ф. Сологуба)» – в «Acta Philologica» (2007, № 1), «"Мы" Евг. Замятина: Мефистофель и Андрогин» – в «Вопросах литературы» (2004, вып. ноябрь-декабрь), «"Дон Кихот" деконструированный („Чевенгур“ Андрея Платонова)» – в «Вестнике Московского университета. Филология» (2009, № 3), «Сервантес и Булгаков» – в «Вестнике Московского университета. Филология» (1996, № 5); «"Дон Кихот" и „роман сознания“» – в сборнике «Культурный палимпсест» (СПб.: Наука, 2011).

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
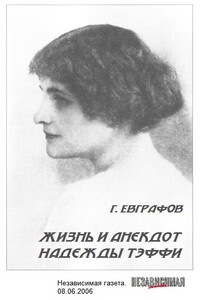
Биографический очерк, напечатанный в «Независимой газете», 08.06.2006 О грустной жизни весёлой писательницы, Тэффи, «королевы русского юмора». Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу — Бучинская, 1872 — 1952) — русская писательница и поэтесса, автор юмористических рассказов, стихов, фельетонов, сотрудник знаменитых юмористических журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», мемуаристка и переводчица, белоэмигрантка… Она прожила долгую жизнь. При ней свершились три русские революции и две мировые войны.

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.
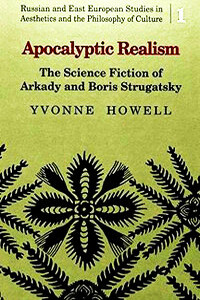
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.
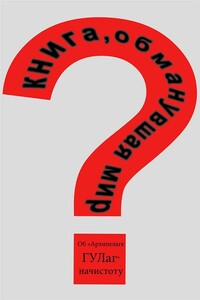
Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.
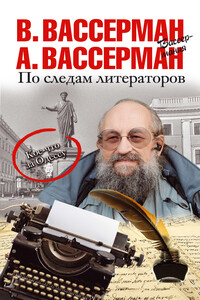
Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.

Первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. В книге рассмотрены различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается также критический анализ японских работ по соответствующей тематике. Особо рассмотрены, в частности, проблемы роли английского языка в Японии и заимствований из этого языка, форм вежливости, особенностей женской речи в Японии, иероглифов и других видов японской письменности.
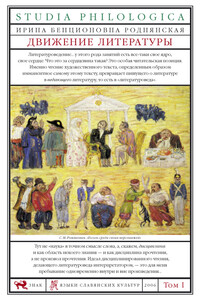
В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Макании, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).
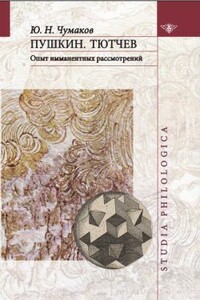
В книге рассмотрен ряд текстов Пушкина и Тютчева, взятых вне сравнительно-сопоставительного анализа, с расчетом на их взаимоосвещение. Внимание обращено не только на поэтику, но и на сущностные категории, и в этом случае жанровая принадлежность оказывается приглушенной. Имманентный подход, объединяющий исследование, не мешает самодостаточному прочтению каждой из его частей.Книга адресована специалистам в области теории и истории русской литературы, преподавателям и студентам-гуманитариям, а также всем интересующимся классической русской поэзией.
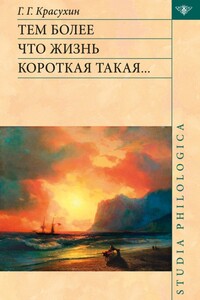
Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране.