От прощания до встречи - [42]
Капитан привстал, дотянулся до фляги, отвинтил крышку и залпом выпил остаток спирта. В голове закружилось, дрожь стала утихать. Под соловьиные трели нещадно клонило в сон. Смежались веки, тяжестью наливалось все тело. «Не спешить, — подумал он, — а то совсем сморит. Сон не уйдет, поспать можно потом». Он тряхнул головой, с силой сжал пальцы в кулаки. Ногу пронзила резкая боль, и сон сняло как рукой. Теперь надо спешить… Выбрав удобную позицию, он нажал изо всех сил на нож и со стоном, с зубным скрежетом довершил дело. Уронив руки на землю, закрыл глаза. Желтые дрожащие круги замельтешили перед глазами. Он приподнял веки и, не давая себе расслабиться, обмыл ногу спиртом, смазал йодом — обжигающая боль высекла из глаз искры — и крепко, ладно забинтовал ее, подложив толстый слой ваты.
Теперь можно было и поспать, даже лучше всего было бы поспать, но он внезапно почувствовал голод. Открыв тушенку, съел всю банку в один присест. Съел и тотчас заснул.
К вечеру он проснулся, глянул на толстую в белых бинтах ногу, и непрошеные слезы хлынули из глаз. Не от боли, ноющей и саднящей, а от горькой обиды, от неизбывной злости на немцев.
А вечерними сумерками из леса приползли в овражек его бойцы с санитаром, переправили в свой лесной лагерь, и через три дня он уже был в полевом госпитале.
Рассказ мой Валентина Александровна слушала молча, терпеливо. Иной раз, когда капитан, по ее мнению, мог сделать иначе и тем самым облегчить свои страдания, она закрывала лицо руками, замирала, а через несколько мгновений из-под ее ладоней вырывался тихий, но явственный стон. Рассказ этот недешево обошелся и ей и мне.
— Благодарю вас, Федор Василич, — сказала она тихо, едва я замолчал. — Я должна это знать.
Разговор наш затянулся. Валентину Александровну ждали дела, и я поднялся. Не удержавшись, спросил ее о Жоре Наседкине и в опечаленных глазах увидел тревогу.
— Ничего нового сказать пока не могу, — ответила она. — В моей практике это, наверное, самый тяжелый случай.
В палате меня давно уже ждал капитан. Госпитальная разведка донесла ему, что все это время я разговаривал с Валентиной Александровной.
— С Жорой пока все по-старому, — сказал я. — Духом он вроде бы не падает, просил передать тебе привет.
Я сел на кровать и подробно рассказал ему о Пантюхове и о переживаниях Валентины Александровны. Капитан принял мой рассказ близко к сердцу.
— Как я понимаю, — сказал он, воодушевляясь, — мы с тобой должны помочь ей.
— И поможем, — ответил я. — Надо только хорошенько подумать, как это лучше сделать.
На другой день капитан, проснувшись, сказал вместо утреннего приветствия:
— Любая серьезная операция начинается с разведки. Пентюхов — не исключение.
— Пантюхов, — поправил я.
Он повернул голову и пристально посмотрел на меня. В глазах у него я увидел смешинки.
— Может быть, ты и прав. Но без разведки, скажу я тебе, и этого точно не установишь. Стало быть — разведка. Глубокая, полная. Исключить на первых порах придется, пожалуй, только одно — разведку боем. Правильно?
— Пожалуй, — ответил я. Судя по всему, капитан со вчерашнего дня о многом успел поразмыслить.
— Внизу этот Пантюхов или наверху? — спросил он и огорчился, когда узнал, что наверху. — Придется тебе пока одному попотеть.
Я ничуть не опасался разведки в одиночку — в этом случае она, по моему разумению, была даже кстати, — но я решительно не представлял себе, как ее начать. Думал я почти сутки, но ничего путного не придумал. Мешала разница в годах: Пантюхову было сорок, а мне — двадцать с маленьким гаком. Меня всегда тянуло к пожилым людям, и я довольно быстро осваивался с ними, как и они со мной, но начинать знакомство всякий раз было тяжело, я их стеснялся, мне казалось, что им со мной будет неинтересно, что они попусту потратят время. Бывали случаи, когда почин брали они сами, и все тогда шло хорошо. Но мог ли я надеяться, что отъявленный, по словам Валентины Александровны, нелюдим Пантюхов соизволит заговорить со мной? Как же, интересно, такой молчун мог работать в торговле? Сколько я знал, продавцы — люди веселые, общительные и на что другое, а на слова не скупые. Может быть, и он такой же, когда в своей стихии? Как-никак до заведующего дослужился. А тут оторвали от привычного дела, окунули в смертельный водоворот войны, и человек сник. В сорок лет не так просто приспособиться к боевым тяготам.
С этими мыслями я и отправился после завтрака к Пантюхову. В светлой палате о двух окнах нашли временную тыловую пристань пятеро солдат-страдальцев. Четверо были мои ровесники, а может быть, и моложе, я встречал их в перевязочной, в коридоре или же на прилегающей к госпиталю лесной территории. Моему приходу они обрадовались, повставали с коек и наперебой стали предлагать табуретки.
— Присаживайтесь, товарищ лейтенант, — сказал белобрысый парень в густых веснушках, с рукой на перевязи. Я знал, что его, как и меня, звали Федором. — Сюда, пожалуйста, к окошку. Вид у нас из окон царский.
Их окна выходили на большую поляну, покрытую густой травой и обрамленную вековыми деревьями — соснами и елями, пихтами и березами. Деревьям было просторно, они росли мудро, спокойно, и бушевавшая далеко за ними, на западе, война казалась при виде их абсурдом, нелепостью.

После восемнадцати лет отсутствия Джек Тернер возвращается домой, чтобы открыть свою юридическую фирму. Теперь он успешный адвокат по уголовным делам, но все также чувствует себя потерянным. Который год Джека преследует ощущение, что он что-то упускает в жизни. Будь это оставшиеся без ответа вопросы о его брате или многообещающий роман с Дженни Уолтон. Джек опасается сближаться с кем-либо, кроме нескольких надежных друзей и своих любимых собак. Но когда ему поручают защиту семнадцатилетней девушки, обвиняемой в продаже наркотиков, и его врага детства в деле о вооруженном ограблении, Джек вынужден переоценить свое прошлое и задуматься о собственных ошибках в общении с другими.
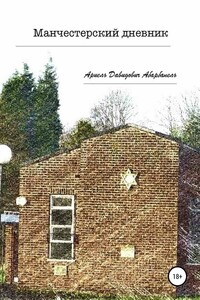
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.

Что скрывается за той маской, что носит каждый из нас? «Воображаемые жизни Джеймса Понеке» – роман новозеландской писательницы Тины Макерети, глубокий, красочный и захватывающий. Джеймс Понеке – юный сирота-маори. Всю свою жизнь он мечтал путешествовать, и, когда английский художник, по долгу службы оказавшийся в Новой Зеландии, приглашает его в Лондон, Джеймс спешит принять предложение. Теперь он – часть шоу, живой экспонат. Проводит свои дни, наряженный в национальную одежду, и каждый за плату может поглазеть на него.

Село Белогорье. Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Воскресная литургия. Молитвенный дух объединяет всех людей. Среди молящихся есть молодой парень в инвалидной коляске, это Максим. Максим большой молодец, ему все дается с трудом: преодолевать дорогу, писать письма, разговаривать, что-то держать руками, даже принимать пищу. Но он не унывает, старается справляться со всеми трудностями. У Максима нет памяти, поэтому он часто пользуется словами других людей, но это не беда. Самое главное – он хочет стать нужным другим, поделиться своими мыслями, мечтами и фантазиями.

Скорее рассказ, чем книга. Разрушенные представления, юношеский максимализм и размышления, размышления, размышления… Нет, здесь нет большой трагедии, здесь просто мир, с виду спокойный, но так бурно переживаемый.
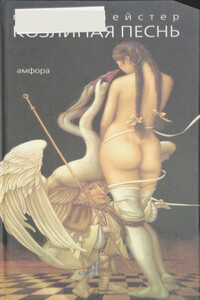
Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.