От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - [171]
Этому-то Михаилу Петровичу пришла мысль или, точнее, настойчивое желание, совершенно бесцеремонно им и проведенное, выбросить из литературы гг. Меньшикова, Дорошевича и (в менее настойчивой форме) Ник. Энгельгардта. О Дорошевиче мне передал издатель-редактор «Одесского Листка» В. В. Навроцкий. Г-н Дорошевич поднялся и сразу стал быстро выделяться в каком-то «запойном» московском листке: как с его статьею номер – расхватывается на улице до последнего листка, Невроцкий, издатель удивительно чуткий, энергичный и предприимчивый, «чисто русский человек», едва ли не греческого происхождения (чрезвычайно темный брюнет), поставивший дозволенный ему «листок объявлений» (отсюда заглавие – «Одесский Листок») на степень первого южнорусского органа печати, пригласил к себе и г. Дорошевича. Известно, что такое провинциальная печать, и много ли надо было администрации «напряжений», чтобы задушить, и без прямого запрещения (что хлопотливо), газету. «Запретить розницу», «запретить печатание объявлений», «приостановить на 6 месяцев»: и существовать невозможно. Газету не «запрещали», для чего по закону требовалось соглашение трех министров, а ей единолично: 1) не давали пить, 2) есть и 3) выгоняли на улицу, где она «отходила на тот свет» в судорогах и конвульсиях, причем министерство внутр. дел благочестиво читало «requiem». «Я бдительно охраняло, но умерший сам умер, не захотев жить». Знаков насилия на теле не обнаруживалось, и протокол был чист. В. В. Навроцкий беспокойно приехал в Петербург вследствие желания главноуправляющего по делам печати с ним «поговорить». А «разговор» состоял в том, что если Навроцкий уберет из газеты г. Дорошевича, то газета будет жить, а если не уберет, то, «пожалуй, умрет». В. В. Навроцкий просил меня (я у него недолго сотрудничал) съездить к местному (одесскому) цензору, тоже вызванному в Петербург «для инструкций» или «по делам». С изумлением я увидел чиновничка до того молодого, что он мне показался мальчиком. «Боже, и он нас всех цензурирует! Но ведь он ничего, кроме Дюма-fils, не читал». Но чиновничек, кроме Дюма-fils, оказался человечком сухоньким, аккуратненьким, к делу внимательным, с собеседником любезным и приехал по сложной цели: во-первых, – для «инструкций», а во-вторых, – потому, что ему мог выйти и мог не выйти к Пасхе «следующий орден». В подробностях я, вероятно, путаю, – но общий итог подробностей давал это точное впечатление. – «Да за что, собственно, Мих. Петр. (Соловьев) ненавидит Дорошевича? – спросил я. Почему он его гонит из печати?!» Цензор пожал плечами: «Он его не гонит; но он спрашивает: какой Дорошевич писатель? Все его остроумие состоит из грубейшего шаржа Гоголя, и что у него через четыре с троки в пятой непременно торчит гоголевское словцо, которое и придает смысл, сок и румянец этим пяти строкам. Выньте это гоголевское словцо и пять этих строк умрут. Умрет вся страница без 5-10 гоголевских словечек. Умер, или даже, точнее, – и не рождался, весь и Дорошевич, если из него вытащить Гоголя. Мих. Петр, и спрашивает: что же это за писатель? Это пошлость, а не писатель. Это вымазанный дегтем Гоголь, который все пачкает, к чему ни прикоснется». Опять я не буквально помню слова, но смысл их был именно этот: главноуправляющий по делам печати, приводя в движение все силы российского государства, решился «выбросить из литературы» г. Дорошевича не по определенной вине его, не потому, чтобы считал его вредным, а просто потому, что он… ему не нравился, художественно не нравился, как читателю, как домоседу, отцу своего семейства и мужу своей жены!! Вот и плоды «занятия Дантом» в русской администрации. Мы в истории нашей до того привыкли или приучены к насилию, что вопрос собственно о нем никогда нам не представляется тяжелым вопросом, а есть недоумение только о том: надлежащее ли горло попало под стальные пальцы. Человек, с трупом в руках, обеспокоен только тем: брюнет он или блондин? Брюнет – «туда и дорога»; блондин – «мог бы жить; виноват, ошибся». Вторым bete noire[222] Мих. Петр, был главный сотрудник «Недели», писавший ежемесячно в ней голубым по розовому и розовым – по голубому. «Все люди невинны, и, если бы не дурная погода, – был бы рай. Но как погода дурная, то надо открыть форточку» или «не надо открывать форточки», в одной книжке то – «открывать», в другой – «не открывать», но вообще «человек» и «форточка» и «все мы невинны». Он не обнаруживал того ума, энергии и знаний, какие в нем есть теперь, и едва ли не был искусственно младенцем в преднамеренно-младенческом журнале, рассчитанном на сельских учителей, титулярных советников и не вышедших замуж девиц: читатель впечатлительный и самый обильный. Мих. Петр, с той строгостью много пожившего и испытавшего человека, к тому же опять преданного Данту, о котором и Пушкин сказал:
и проч., еще более, чем г. Дорошевича, возненавидел г. Меньшикова и решил его «изъять из литературы» всеми способами и до последней строки и окончательного издыхания. Тут я должен вписать черную страницу в собственный формуляр: каким образом я, будучи другом (почти) Михаилу Петровичу, любя и уважая его, кажется, имея на него, по крайней мере, идейное, по крайней мере дружелюбное, «свое домашнее» влияние, не только не рассорился с ним или «крупно не поговорил» по поводу этих явно бесчеловечных и граждански – бессовестных деяний и намерений, но и ничего при зрелище их не почувствовал!! Вот это проклятое русское равнодушие, в котором и я так виновен, – в сущности есть настоящий родник всех «трупов» в нашей жизни, злодейств и преступлений: что много из соседей не кричит караул, не выбегает «из своей хаты» и, словом, что у нас есть какое-то пошлое (или святое?) скопище частых людей и вовсе нет гражданства, общества. С Михаилом Петровичем, я помню, говорил не только «крупно», но и ядовито, злобно и господственно, когда дело касалось других тем, напр.: устройства семьи, развода и проч. Помню, как в белую петербургскую ночь, часу в 4-м утра, он встал с кресла, когда под самый конец сложного разговора о венчании я ему сказал: «Или это – не таинство, и тогда зачем оно? Как смеет государство придавать ему сакраментальную важность? А если оно есть таинство и это твердо в вероучении, то вся наша церковь повинна в симонии, так как ведь деньги, в строго выговоренной перед венчанием сумме, все священники берут, и это от митрополита до дьячка все знают». Тревожно он сказал: «Это только обычай!!» – «Обычай или необычай, но как церковь учит именно так и от ее взгляда на сакраментальность единственно венчания множество девушек и детей пошло с камнем на шее в воду, то уж позвольте и мне печатно размазать об этой симонии церкви, с которою на шее она также печально пойдет в воду, как безмолвные и растерянные девушки, при виде которых ни один батюшка не расплакался». А Соловьев, – нужно заметить, – церковь «почитал» еще больше, чем государство. Но отчего вот так же и с более яркими аргументами, потому что дело было еще очевиднее, я не говорил ему, что, как частный человек, он может ненавидеть таких-то и таких-то писателей, но государство дало ему власть не для проведения личных вкусов, а для охранения своих государственных интересов и соблюдения польз и, смею думать, удовольствий (литература, чтение) мирных обывателей? Так все ясно было! Невероятно, чтобы он не опомнился при кристальной чистоте души своей; чтобы, по крайней мере, не задумался, не стал менее решителен. Хотя как-то он никогда не «задумывался», а все – «решал», всегда только «шел». Думал он о Данте, а в делах – «указывал», «решал» и «подписывал». Таково было впечатление. Конечно, меня ли он не послушал: но гражданский долг обязывал разорвать с человеком, который «на большой дороге режет», а я с ним пил чай. И что поразительно: теперь я вот это пишу, но тогда самая мысль о протесте мне не приходила в голову, и равнодушным знанием я знал: «глупо! просто – чепуха! со стороны – смешно; а он, бедный, так уверен. И ведь не имеет никакого права». Что он не имеет права так поступать, – это я сознавал и тогда. Но он был кристально чист, я его искренно любил и уважал. И просто с ним «пил чай», не возмущаясь, не негодуя. Все мы – слишком частные люди, до бедствия – частные. Идиллия? «рай?» болота, вертеп? Все есть в «матушке-Руси», на все «матушка-Русь» похожа.

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…«Опавшие листья» - опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги.

В настоящем издании представлена центральная глава из книги «Вместо себя: подход Августина» Жана-Аюка Мариона, одного из крупнейших современных французских философов. Книга «Вместо себя» с формальной точки зрения представляет собой развернутый комментарий на «Исповедь» – самый, наверное, знаменитый текст христианской традиции о том, каков путь души к Богу и к себе самой. Количество комментариев на «Исповедь» необозримо, однако текст Мариона разительным образом отличается от большинства из них. Книга, которую вы сейчас держите в руках, представляет не просто результат работы блестящего историка философии, комментатора и интерпретатора классических текстов; это еще и подражание Августину, попытка вовлечь читателя в ту же самую работу души, о которой говорится в «Исповеди».

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

Созданный классиками марксизма исторический материализм представляет собой научную теорию, объясняющую развитие общества на основе базиса – способа производства материальных благ и надстройки – социальных институтов и общественного сознания, зависимых от общественного бытия. Согласно марксизму именно общественное бытие определяет сознание людей. В последние годы жизни Маркса и после его смерти Энгельс продолжал интенсивно развивать и разрабатывать материалистическое понимание истории. Он опубликовал ряд посвященных этому работ, которые вошли в настоящий сборник: «Развитие социализма от утопии к науке» «Происхождение семьи, частной собственности и государства» «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» и другие.
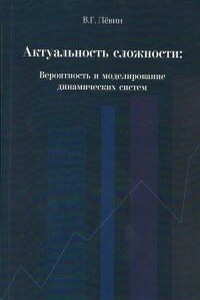
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.

В своей книге Тимоти Мортон отвечает на вопрос, что мы на самом деле понимаем под «экологией» в условиях глобальной политики и экономики, участниками которой уже давно являются не только люди, но и различные нечеловеческие акторы. Достаточно ли у нас возможностей и воли, чтобы изменить представление о месте человека в мире, онтологическая однородность которого поставлена под вопрос? Междисциплинарный исследователь, сотрудничающий со знаковыми деятелями современной культуры от Бьорк до Ханса Ульриха Обриста, Мортон также принадлежит к группе важных мыслителей, работающих на пересечении объектно-ориентированной философии, экокритики, современного литературоведения, постчеловеческой этики и других течений, которые ставят под вопрос субъектно-объектные отношения в сфере мышления и формирования знаний о мире.

Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.