От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - [169]
Статья о Леонтьеве должна быть готова 7 января. Около этого времени я заеду к вам, известивши телеграммой, чтобы прочесть. Тогда поговорим и об Ухтомском.
Душевно преданный вам Влад. Соловьев».
Страхов в это время заболел – раком… Он худел, чуть-чуть слабел: но, не зная существа болезни, не особенно беспокоился. И напомнить ему «о христианской кончине живота» было решительно невозможно, не открыв существа болезни, т. е. не отравив черною отравою нескольких месяцев жизни, какие ему остались и какие он мог все же провести «ровно», без смятения и муки. Кому нужно ставить людей в положение Ивана Ильича (у Толстого), для чего это нужно? Если жестокая природа нагнала на человека такие скорби, не дадим врагу победы по крайней мере над духом его. «Только души его не коснись», – говорит и Бог дьяволу, предавая во власть его тело Иова. Я, можно сказать, и руками и ногами отталкиваю самое существо таких болезней, как рак, т. е. отталкиваю мысль, чтобы они были сколько-нибудь заслужены благородным страдальцем, человеком: но, уже подчиняясь им как факту, как могиле, зачем же еще «печатать в газетах» об успехах врага?! Пусть приходит как вор и ворует нашу жизнь, ворует у друзей Друга, у детей отца, у матери – ребенка: но ни копейку на рекламу его «побед», а главное – самому человеку всяческое облегчение, напр., хотя бы вот в этом виде устранения предварительного страха. Совершенно не для чего утолщать смерть этим страхом: она и без того жирна, толста, сыта, самодовольна… Ну и пусть… Смерть и болезни в отношении бедного и благородного существа человека, и без того страдающего от бедности и социальных неустройств, есть чудовище имморальности: и человек, даже уже в ее пасти находясь, пусть мечтает и живет, как жил, смотря в лазурь Неба и все еще надеясь, предполагая и замышляя. Не забуду, как Страхов за три дня до смерти едва слышным, коснеющим языком (я должен был подставить ухо ко рту его) говорил: «Ужасные ошибки!..» – «Какие, Николай Николаевич?» – «Да напечатали на обложке: «Из истории русского нигилизма» – такие-то и такие-то годы, а надо другие. Недосмотрел»… И отлично. Думать об этом гораздо лучше, чем о раке, который ест нас и доест, и пусть будет сыт: а мы будем сыты и литературою, и поэзией, и наукой, надеждами и ожиданиями. Мы слишком вправе надеяться и будем надеяться. Мы трудились…
Оставляю эти темы. Конечно, я сейчас же передал Страхову о желании Соловьева помириться с ним. Ссора эта (из-за Данилевского и славянофилов) была такая же неумная и ненужная, как у меня с Соловьевым, как вообще большинство литературных ссор. Собственно, для настоящего неуважения к человеку может быть почва только в неуважении к его деятельности, именно к аморальным ее чертам, сводящимся к двум: лжи и определенной, фактической жестокости. Угнетение человеком человека или внутренняя фальшь всей натуры – вот что может заставить не подать ответно руки человеку, протянувшему ее. Страхов и Соловьев вначале и очень долго были друзьями, причем Страхов по необыкновенно кроткой натуре своей, а также по изумительной образованности и осторожному уму был «почитателем-наставником» Соловьева. Последний по впечатлительности своей натуры, вмещавшей много воска, был способен воспринимать, и даже жадно воспринимать, эти «учительские» влияния. Можно было бы всю сочинениях отыскать множество следов и, наконец, прямых признаний, хотя и очень кратких, большею частью в шутливой форме, – как он радостно, бывало, шел навстречу этим влияниям на себя. Так он, между прочим, питал к концу жизни «слабость» к старцам византийского пошиба, а в ранние годы гимназии «препарировал лягушек по образцу Базарова». Вечно жаждая любви к себе, «обожания», он чуть ли не чаще еще вспыхивал сам влюбленностью и «обожал» других: черта, которая пусть не заставит никого улыбнуться, ибо не есть ли это благороднейшая эллинская живучесть и подвижность, великая нервность и отзывчивость, вечная взволнованность, достоинства еще более редкие, чем мудрость, и гораздо человечнейшие, нежели видная ученость. Мы любим в себе «гордые достоинства»: между тем вот эти скромные и человечные едва ли не важнее. Со Страховым он разошелся жестко, неуклюже: едва ли не от того он и разошелся с ним так неумело, что ранее стоял в застенчивом положении ученика. И с Данилевским, и со Страховым нужно было разойтись (это Соловьев чувствовал, это я теперь чувствую), ибо их «святая простота», как и вообще наших славянофилов, прикрывала и стояла щитом около позорнейшей русской действительности, уже именно злой и именно фальшивой. Они были похожи на добрых старушек-домовладелиц, у которых «заняло помещение» полицейское управление, притом самых недвусмысленных нравов. Но старушки-то эти были добрые и благородные, и нельзя было «класть охулку» на самый их дом, их имя, на старые гербы их, нельзя было кричать: «У Страховых, Данилевских, Аксаковых дело нечисто, – обирают, шпионят, насилуют». Нужно было строго разделить кабинетный идеализм и житейскую нечистоту, к ней прицепившуюся, как паук с паутиною к орлу. В письме Соловьева к Страхову (последний читал мне его) он, мотивируя первый шаг своего похода против автора «России и Европы», писал: «Нельзя истребить вшей, не пожертвовав полушубком, в который они забрались: и как за спину Данилевского прячутся гады и гадкое, то надо опрокинуть его авторитет и научную, даже моральную, компетентность». Мне эта параллель с полушубком не кажется сильным аргументом: в зиму примиришься и со вшами, только бы не замерзнуть. Нужно, однако, для оправдания Соловьева вспомнить то время, когда он открыл этот поход, середину царствования Александра III, когда «Россия и Европа» и идея особых культурно-исторических типов стала, притом официально почти, аль-кораном нашей охранительной политики, жесткой внутри и строго замкнувшейся извне. Мы прели в своем четырехосном (о четырех осях) культурно-историческом типе (теория Данилевского), мирясь с начавшимся голодным вымиранием народа и худосочием центральной России, рабством церкви, униженностью печати и, словом, всем, что шло авангардом впереди заключительного апофеоза китайской и потом японской войны, которая неожиданно сорвалась, как у Кречинского его брильянтовая булавка… «Свадьба Кречинского» есть наша историческая пьеса… Раннее, гневное, доблестное выступление против Данилевского и Страхова, которое я лично считал в ту пору нравственным падением Соловьева, на самом деле было полно гениального предчувствия будущих громов и провалов, было истинно орлиным заглядыванием за горизонт «текущих дел», в которые были погружены все мы, «писавшие, служившие и разговаривавшие». Но, повторяю, Соловьев это сделал как-то неуклюже и аморально, причинив бездну страдания ни в чем не повинным людям (полушубок) и едва ли достав скорпионами своего красноречия тех «вшей», которые умирают исключительно от персидского порошка, т. е. в переводе – от прекращения доходов, лишения жалованья и уменьшения милостей начальства, а никак не от «грома и молнии» патетической публицистики. Страхов был глубоко и «окончательно» разочарован в Соловьеве и на предложение мое и «наше» (семьи моей) сказал: «Ничего из этого (т. е. свиданья с Соловьевым) не выйдет». И он прибавил несколько жестких слов о Соловьеве, о его избалованности успехами в обществе и в печати, при которых человек не помнит простой правды. Но по мягкости согласился с ним свидеться. Соловьев и он обедали у меня: и аут уже Соловьев не обращал никакого внимания на хозяев, весь предавшись примирительному порыву своему и ходя около Страхова, как нянька около больного ребенка – больного раком – он знал!! Страхов отвечал тем любезно-равнодушным тоном, который связывает отношения в вялый узел, не держащий крепко людей. Не забуду, как в прихожей Соловьев одевал Страхова: именно как нянька ребенка и еще точнее – как сестра милосердия больного. Мне не пришло на ум, что «вялый узел» отношений можно было затянуть крепче, еще и еще заставив их встретиться. Но и сам я жил уторопленно-смятенною жизнью в те дни, и Страхов так быстро подходил к могиле, что «укрепление дружбы», обычно рассчитываемое на долгую жизнь, ни перед одним из нас не встало даже вопросом.

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…«Опавшие листья» - опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги.

В настоящем издании представлена центральная глава из книги «Вместо себя: подход Августина» Жана-Аюка Мариона, одного из крупнейших современных французских философов. Книга «Вместо себя» с формальной точки зрения представляет собой развернутый комментарий на «Исповедь» – самый, наверное, знаменитый текст христианской традиции о том, каков путь души к Богу и к себе самой. Количество комментариев на «Исповедь» необозримо, однако текст Мариона разительным образом отличается от большинства из них. Книга, которую вы сейчас держите в руках, представляет не просто результат работы блестящего историка философии, комментатора и интерпретатора классических текстов; это еще и подражание Августину, попытка вовлечь читателя в ту же самую работу души, о которой говорится в «Исповеди».

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

Созданный классиками марксизма исторический материализм представляет собой научную теорию, объясняющую развитие общества на основе базиса – способа производства материальных благ и надстройки – социальных институтов и общественного сознания, зависимых от общественного бытия. Согласно марксизму именно общественное бытие определяет сознание людей. В последние годы жизни Маркса и после его смерти Энгельс продолжал интенсивно развивать и разрабатывать материалистическое понимание истории. Он опубликовал ряд посвященных этому работ, которые вошли в настоящий сборник: «Развитие социализма от утопии к науке» «Происхождение семьи, частной собственности и государства» «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» и другие.
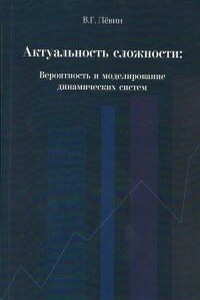
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.

В своей книге Тимоти Мортон отвечает на вопрос, что мы на самом деле понимаем под «экологией» в условиях глобальной политики и экономики, участниками которой уже давно являются не только люди, но и различные нечеловеческие акторы. Достаточно ли у нас возможностей и воли, чтобы изменить представление о месте человека в мире, онтологическая однородность которого поставлена под вопрос? Междисциплинарный исследователь, сотрудничающий со знаковыми деятелями современной культуры от Бьорк до Ханса Ульриха Обриста, Мортон также принадлежит к группе важных мыслителей, работающих на пересечении объектно-ориентированной философии, экокритики, современного литературоведения, постчеловеческой этики и других течений, которые ставят под вопрос субъектно-объектные отношения в сфере мышления и формирования знаний о мире.

Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.