От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - [173]
«Дорогой мой Василий Васильевич!
Не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу оправдание этой веры – в словах Вашей надписи относительно Царствия Божия. Кто одинаково знает по опыту и одинаково понимает и оценивает эти знаки, залоги или предварения Царствия Божия, – те, конечно, братья по духу, и ничто не возможет разделить их.
Книга Ваша будет для меня теперь желанной пищей, – как следует я ее еще не читал. – К исполнению поручений Ваших приступил. О результатах передам лично. Статья о Гёте очень интересна; жаль, что ее неудобно напечатать.
Будьте здоровы, голубчик.
Ваш искренно Влад. Соловьсв».
К сожалению, тона этого, так горячо и интимно задевшего нас обоих, никогда я не возобновил. Почему? Просто непонятно! Я думаю – суета, мелочи жизни. Очевидно, здесь вскрывался мостик в самую глубь его души, и я имел от нее ключ, и не вошел, и не посмотрел. Страшная потеря в смысле видения, опыта, возможного научения, Но я не писал бы этих воспоминаний и не печатал бы этих, в сущности не имеющих содержания, записочек, если бы не это его письмо и не это вообще секундное прикосновение такими глубокими «днищами» души. Года на письме опять нет, и я думаю, оно относится к 96-му или 97-му годам.
Затем, вероятно, много времени спустя, произошел инцидент со Шперком, о котором я рассказал выше. Книгу «Оправдание добра» Соловьев мне прислал в контроль с секретарем своим – при очень трогательной надписи. Мы были вполне дружелюбны. Потом при личной встрече он просил меня прочесть в ней VII главу, еще которую-то и «Введение». Но я ничего не прочел – от суеты и мелких хлопот, как мне тогда казалось, но, как теперь объясняю и даже ясно вижу, от неодолимого и все сильнее в меня внедрявшегося отвращения к чтению книг. Причина такого дикого и постыдного явления не может заключаться не в чем ином, как в преждевременно раннем чтении (лет с 10), притом совершенно запойном, без оставления себе какого-либо досуга, в воскресенье, на вакации летом, сейчас же утром встав и ночью. От постоянного чтения родные меня называли «книжным червем», т. е. что я ползаю и лежу в книге и что вне книги (чтения) – меня просто нет. Так продолжалось лет 25–30, пока струна не лопнула или, точнее, не начала медленно перетираться; и именно к самому нужному времени (начало старости) у меня вовсе утратилась способность чтения, кроме разве таких совершенно новых и оригинальных книг, как, напр. «Талмуд» или «Кабала» (если бы попалась). Да еще страницы Библии я люблю перечитывать. Но даже журнальную или газетную о себе статью я прочитываю с трудом, не всегда сразу по получении, а иногда на другой или третий день, и не всегда дочитываю. Соловьев, видя, что я совсем ничего не читаю из его книги, даже «Введения», естественно, мог почувствовать себя оскорбленным (как и я бы себя почувствовал). Отсюда – предположение, что я мог сколько-нибудь быть солидарен со Шперком, о дружбе и «слабости» моей к которому он знал: но этой солидарности не было, хотя Шперк имел на меня какое-то такое особенное действие, что я не имел сил и негодовать на него, как был бы должен, обязан. Книгу «Оправдание добра» Шперк взял у меня «просмотреть», и я не думал, что он будет о ней писать рецензию. В сущности, происхождение этой рецензии самое простое и пошловатое: 1) Шперк уже «просматривал» книгу, т. е. материал для рецензии и след. – для заработка (он, с женою и детьми, страшно нуждался в нем) был готов («чем читать и покупать другую книгу»); 2) Соловьева он не любил и не очень уважал, считая его «эстетическим, а не этическим явлением», лицом (см. выше), и 3) имел «зуб» на него (как и на меня) за то, что мы оба не читали (впрочем, Соловьев читал) и особенно что мы ничего не писали о его великих, изумительных брошюрах, где он превзошел Канта, опроверг германскую философию, открыл великие глубины русского духа и, в сущности, где (в поэтико-моральной части) он только перепевал напевы Ницше (года за два до того, как о нем пошла молва в русской литературе, но Шперк «открыл» Ницше действительно сам и самостоятельно). Нисколько он и не скрывал, что будет на нас всех (и на меня) за это молчание нападать и нас пересмеивать.
У него это имело обаяние открытости, борьбы: «Я теперь нищ, и вы не подаете мне копейки; когда я буду богач – я брошу вам камень». В нем была обаятельность начинающего разбойника, и ведь эта обаятельность есть, она бывает. По крайней мере, у меня руки опускались перед нею. Вот два письма Соловьева, написанные на другой и третий день после появления рецензии, которая мучительно задела его и по талантливости имела силу задеть:
«Дорогой Василий Васильевич!
В силу евангельской заповеди (Мтф. V, 44) чувствую потребность поблагодарить вас за ваше участие в наглом и довольно коварном нападении на мою книгу в сегодняшнем «Нов. Вр.» (приложение). Так как это маленькое, но довольно острое происшествие не вызвало во мне враждебных чувств к вам, то я заключаю, что они вырваны с корнем и что мое дружеское расположение к вам не нуждается в дальнейших испытаниях. Спешу написать вам об этом, чтобы избавить вас от каких-нибудь душевных затруднений при возможных случайных встречах.

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…«Опавшие листья» - опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги.

В настоящем издании представлена центральная глава из книги «Вместо себя: подход Августина» Жана-Аюка Мариона, одного из крупнейших современных французских философов. Книга «Вместо себя» с формальной точки зрения представляет собой развернутый комментарий на «Исповедь» – самый, наверное, знаменитый текст христианской традиции о том, каков путь души к Богу и к себе самой. Количество комментариев на «Исповедь» необозримо, однако текст Мариона разительным образом отличается от большинства из них. Книга, которую вы сейчас держите в руках, представляет не просто результат работы блестящего историка философии, комментатора и интерпретатора классических текстов; это еще и подражание Августину, попытка вовлечь читателя в ту же самую работу души, о которой говорится в «Исповеди».

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

Созданный классиками марксизма исторический материализм представляет собой научную теорию, объясняющую развитие общества на основе базиса – способа производства материальных благ и надстройки – социальных институтов и общественного сознания, зависимых от общественного бытия. Согласно марксизму именно общественное бытие определяет сознание людей. В последние годы жизни Маркса и после его смерти Энгельс продолжал интенсивно развивать и разрабатывать материалистическое понимание истории. Он опубликовал ряд посвященных этому работ, которые вошли в настоящий сборник: «Развитие социализма от утопии к науке» «Происхождение семьи, частной собственности и государства» «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» и другие.
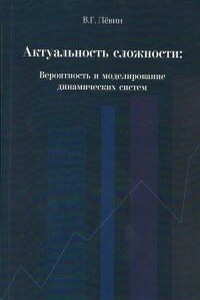
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.

В своей книге Тимоти Мортон отвечает на вопрос, что мы на самом деле понимаем под «экологией» в условиях глобальной политики и экономики, участниками которой уже давно являются не только люди, но и различные нечеловеческие акторы. Достаточно ли у нас возможностей и воли, чтобы изменить представление о месте человека в мире, онтологическая однородность которого поставлена под вопрос? Междисциплинарный исследователь, сотрудничающий со знаковыми деятелями современной культуры от Бьорк до Ханса Ульриха Обриста, Мортон также принадлежит к группе важных мыслителей, работающих на пересечении объектно-ориентированной философии, экокритики, современного литературоведения, постчеловеческой этики и других течений, которые ставят под вопрос субъектно-объектные отношения в сфере мышления и формирования знаний о мире.

Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.