Остров Колгуев - [13]
Ветер пахнет дымом. Таули приглашает в чум.
Сын Уэско, откинув шкуру, заглядывает в чум, здоровается. Идем к чуму Уэско здороваться.
Хорошо, что нас двое — Володя пьет чай в чуме Уэско, я живу в чуме Таули.
У Таули четыре брата и две сестры. Сейчас в чуме живут его мать и два брата.
В зимнем чуме шкуры лежат на досках, специально выпиленные доски лежат на снегу. Между ними полоса снега. Когда снег загрязнится, приносят и утаптывают чистый. В центре этой снежной полосы костер.
Обычно по одну сторону костра живут старики, по другую — молодые. Едят отдельно — с каждой стороны ставят низенький столик.
По одну сторону от костра живут мать Таули и его старший брат — очевидно, он уступил место с другой стороны костра мне.
По другую — мы. Мы — это Таули, Иде и я.
Мы живем в самом центре круга под куполом темноты и звезд, ходим по земле, сидим и лежим на земле, мы ощущаем землю, на которой живем.
В этом чуме кормит и сохраняет огонь мать Таули. Высокая худощавая старуха с темным лицом, таким темным, что мне никак не разглядеть его черт: она ходит согнувшись — от дыма костров и постоянного выделывания шкур.
Каждый день ездим «имать» оленей.
Вместо дня чуть-чуть сереют сумерки. Едем белой тундрой за белые сопки. Я чаще всего сижу на санках позади Таули, прячась за его спиной от твердых и острых кусков смерзшегося снега, летящих из-под оленьих копыт.
«Имают» долго на большой круглой сопке. Собаки не дают оленям разбегаться.
Таули догоняет оленя и ловко бросает свистящий тынзей, связывает и догоняет следующего, во всей его фигуре чувствуются сила, ловкость и что он сам ощущает свою силу и ловкость и радуется им. Реакция у него мгновенная. Часто взрослый олень волочит его за собой, смерзшийся снег режет в кровь руки и лицо, но оно не меняет выражения.
Меняются только глаза — следящие за оленем, измеряющие расстояние, зоркие, точные глаза, прикрытые тяжелыми веками от ветра и колючего снега:
Рисуем чаще всего углем и пастелью.
Я пытаюсь писать гуашью — для этого нужно иметь банку кипятку и писать очень быстро.
Мать Таули сидит в углу на шкуре, шьет, но я чувствую, как она все время следит за мной.
Я не успеваю кончить писать, только подхожу к концу — не знаю, как она об этом догадывается, — она берет чайник, в котором остатки чая еще не замерзли, немного сухого мха и, поливая из чайника пятна краски на досках пола, трет их мхом.
Воды мало, и я всегда удивляюсь точности, с какой старуха попадает струйкой из чайника в пятнышко краски.
Она просто не выносит этих пятнышек и вообще, по-моему, слишком любит чистоту.
Утром, едва только одеяла, шкуры и спальные мешки свернуты и запиханы в угол между шестами чума и полом, она уже молча через костер с другой половины чума швыряет мне лата-то — гусиные крылья, веник, чтобы я смела насыпавшуюся шерсть.
Как она смотрит на меня, когда я выворачиваю, чтобы сушить, пимы из жестких камусов! Ее презрение просто великолепно. Таули, когда я делаю что-нибудь уж очень неловко, вполголоса и глядя в другую сторону, объясняет мне, что надо делать, чтобы это лучше получалось.
А как она смотрит, когда я скручиваю жилку, чтоб зашить дырку на подошве! Так же примерно она смотрит на Таули, когда он вечерами играет со мной в савыко — игру-головоломку, в которую можно играть без конца. По-моему, и Володя тоже побаивается ее.
…На одной половине сидим мы — я и Таули. На другой половине — мать Таули, шьет. Шьет и косится на палитру и кисти, лежащие на полу.
Мне и так трудно — все время замерзает краска. Я пишу уже около часа — костер потух, ведь топят только для того, чтобы сделать чай из снега; мясо в большом закопченном котле варят вечером; я пишу темперой, а в консервной банке уже не вода, а лед с маленькой прорубью посредине; на кистях намерзли ледяные наросты. Но хуже всего то, что вода с краской замерзает тонким слоем прямо на картоне. С силой вожу кистью по палитре.
А старуха все шьет и косится. Потом она встает, вздыхает, неторопливо достает из-за пазухи сверток березовой коры — осторожно, как старинный свиток. Отрывает кусочек коры и подносит его к своей толстенной самодельной папиросе; часто затягивается.
Береста потрескивает, вспыхивает. Старуха держит этот потрескивающий яркий цветок прямо в пальцах, осторожно и неторопливо кладет его под аккуратно сложенные посреди снеговой полосы поленца длиною в карандаш.
Я очень радуюсь, но стараюсь, чтобы это было незаметно; подвигаю банку ближе к огню — лед быстро начинает таять.
Я пишу еще час, а может, и два. Густой, эластичной, податливой — растаявшей краской. И никто не едет к чуму.
Это уже неважно, как получился этюд, — не в этом дело. Я даже не знаю сейчас, что важнее — великолепное лицо Таули с тяжелыми веками, с линией скул и губ, за которыми удивительным образом угадываются белые просторы тундры и ослепительные блики океана у Северного берега, или эта темная, с кольцами, которые уже никогда не снимутся, высохшая старушечья рука, подкладывающая в костер коротенькие поленца.
Таули уехал в поселок, вернулся через три дня и теперь едет к Северному берегу — ему нужно отвезти на маяк Норд бочку керосина.

Эдит Уортон (Edith Wharton, 1862–1937) по рождению и по воспитанию была связана тесными узами с «именитой» нью-йоркской буржуазией. Это не помешало писательнице подвергнуть проницательной критике претензии американской имущей верхушки на моральное и эстетическое господство в жизни страны. Сравнительно поздно начав литературную деятельность, Эдит Уортон успела своими романами и повестями внести значительный вклад в критико-реалистическую американскую прозу первой трети 20-го века. Скончалась во Франции, где провела последние годы жизни.«Слишком ранний рассвет» («False Dawn») был напечатан в сборнике «Старый Нью-Йорк» (1924)
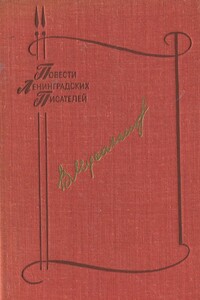
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Кристина не думала влюбляться – это случилось само собой, стоило ей увидеть Севу. Казалось бы, парень как парень, ну, старше, чем собравшиеся на турбазе ребята, почти ровесник вожатых… Но почему-то ее внимание привлек именно он. И чем больше девочка наблюдала за Севой, тем больше странностей находила в его поведении. Он не веселился вместе со всеми, не танцевал на дискотеках, часто бродил в одиночестве по старому корпусу… Стоп. Может, в этом-то все и дело? Ведь о старом доме, бывшем когда-то дворянской усадьбой, ходят пугающие слухи.
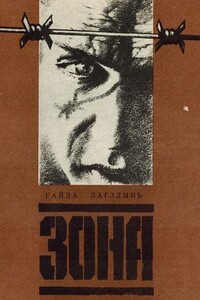
В книге «Зона» рассказывается о жизни номерного Учреждения особого назначения, о трудностях бытия людей, отбывающих срок за свершенное злодеяние, о работе воспитателей и учителей, о сложности взаимоотношений. Это не документальное произведение, а художественное осмысление жизни зоны 1970-х годов.

Дмитрий Натанович Притула (1939–2012), известный петербургский прозаик, прожил большую часть своей жизни в городе Ломоносове. Автор романа, ряда повестей и большого числа рассказов черпал сюжеты и характеры для своих произведений из повседневной жизни «маленьких» людей, обитавших в небольшом городке. Свою творческую задачу прозаик видел в изображении различных человеческих качеств, проявляемых простыми людьми в условиях непрерывной деформации окружающей действительностью, государством — особенно в необычных и даже немыслимых ситуациях.Многие произведения, написанные им в 1970-1980-е годы, не могли быть изданы по цензурным соображениям, некоторые публикуются в этом сборнике впервые, например «Декабрь-76» и «Радикулит».
